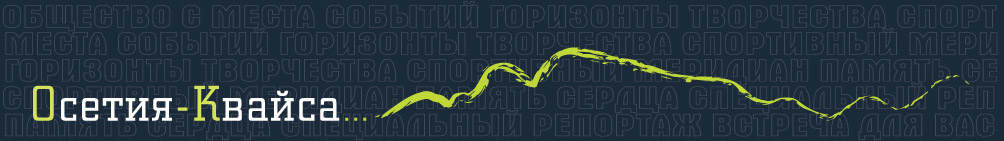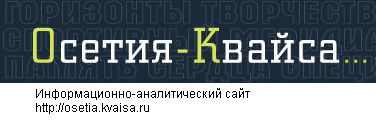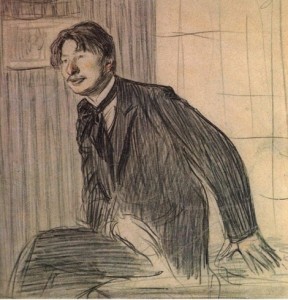Вольный, как ветер с гор, Владикавказ
100 лет назад, 15 ноября 1925 г., в газете «Известия» вышел репортаж Сергея ГОРОДЕЦКОГО «Вольный город», в котором известный поэт и друг Есенина несколькими сочными мазками описал тогдашний образ города на Тереке. Причем, описал непринужденно и элегантно, какими были его лучшие стихи.
«Когда Владикавказ в тумане, он низенький, тесный и скучный… И вдруг соскальзывает туман, в прорыве туч под лучом высоко сверкает снег, громадой встает Столовая гора, цепляющимся шлейфом несутся облака, и, как в старинном балете с итальянскими декорациями, открывается ущелье», – так и чувствуется в будничной газетной прозе душа незаурядного и неравнодушного поэта.
Сергей Митрофанович не раз бывал на осетинской земле. Но впервые приехал в качестве специального корреспондента. В середине 20-х Городецкий увлекся репортерскими поездками по стране. В Осетию он приедет и в следующем, 1926 году, чтобы написать в «Известия» серию очерков «Сагат-Ир», а в журнал «Красная нива» – им же иллюстрированный рассказ.
ВОЛЬНЫЙ ГОРОД
(От нашего специального корреспондента)
Вольный город капризно и легко, как модница, заворачивается в тюль тумана и так же неожиданно и легко сбрасывает с себя облака, обнажая панораму гор, лучше которой, должно быть, только вид с Памира, описанный в Ведах.
Когда Владикавказ в тумане, он низенький, тесный и скучный. Лениво открываются лавки, не спеша проходят горцы в свои исполкомы, фотограф на базаре долго приправляет плакат, изображающий терского всадника. В плакате прорезана голова, и каждый желающий может сняться скачущим на коне из персидских миниатюр.
В такие туманные дни мужское население рано вечером спускается под землю в духаны, вроде «Северного Полюса», где все разделано под гроты со сталактитами. Пьют «Алазань» и «Киракозова», и на вопрос, почему этого вина не отправляют в Москву, красноликие духанщики важно отвечают: «Сами пьем». И, кажется, в такие дни, что ничего нет в вольном городе, кроме упирающегося в тучи бульвара с огнями, ведущими под землю.
Надо зайти в исполкомы, нарсуды, в нацвузы, и тогда увидишь, как многообразно развертывается жизнь края. За советской работой, над диаграммами и у рояля, над чертежами и у станка увидишь того самого горца, который еще недавно не знал никакой культуры. Не оторвавшиеся еще от родового быта горцы везде, во всей работе сохраняют какой- то особенный ритм, а если прибавить сюда костюмы и всепроникающее чувство глубокой удовлетворенности от возможности строить нацкультуру, то картина получится своеобразная.
Вольный город сильно пострадал во время гражданской войны и отстраивается медленно. На улице, где много пробитых домов, мой друг только что поправил свой домик.
Рассказывает: — Август 1918 г. Белые жгут город. Берем город, входим. Иду домой. Смотрю, у стены стоит граммофон, уцелел! Только три дырки в рупоре от пуль. И пластинки целы. Сел, завел, заслушал: — Грусть и тоска безысходная.
— Ну, а теперь как?
— Теперь живем!
Туго ремонтируется промышленность. За городом, в сторону Беслана, чернеет трубами и корпусами огромный сереброплавильный завод. Это — целый город, разлапый, нецелесообразный, Типичное предприятие колониального характера со ставкой на низкую зарплату и богатство руд. Теперь он перешел к Госпромцвету и медленно налаживает производство.
За заводом степи, и в семи верстах первые аулы: Базоркино и Ольгинское ингуши и осетины.
А в другую сторону города, через пляшущий серебряными волнами в оных плетенками берегах — Терек. Дорога, быстро выносит в предгорье.
Опять духаны с типичными надписями: «Бедный Гиго», «Не зайти не можешь», и справа начинают наползать горы, ледяной родник рвется из скалы, ползут арбы… И вдруг соскальзывает туман, в прорыве туч под лучом высоко сверкает снег, громадой встает Столовая гора, цепляющимся шлейфом несутся облака, и, как в старинном балете с итальянскими декорациями, открывается ущелье. Сейчас выйдет пастух, и пастух выходит, а за ним курчавая, лоснящаяся баранта.
СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ, Владикавказ
«Известия», 15 ноября 1925 г.