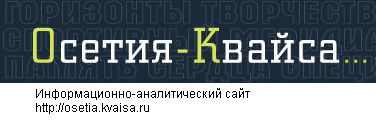С мечтой «донести правду о своем народе до широкого мира»
 120 лет назад в селе Христиановское (ныне город Дигора, Северная Осетия) родилась Езетхан УРУЙМАГОВА (1905-1955), прозаик, драматург, публицист, автор романа «Навстречу жизни».
120 лет назад в селе Христиановское (ныне город Дигора, Северная Осетия) родилась Езетхан УРУЙМАГОВА (1905-1955), прозаик, драматург, публицист, автор романа «Навстречу жизни».
Известный ленинградский поэт Николай Тихонов в 1963 году написал рассказ «Пламя Осетии», который в дальнейшем вошел в семитомное собрание сочинений.
В нем он рассказал, как неожиданно в его жизнь буквально ворвалась хмурой зимой 1937 года будущая романистка. И поведал о ее многолетних творческих исканиях.
В 1965 г., об их переписке рассказал и журнал «Огонёк» в статье «Женщина из Дигоры»…
Публикуем рассказ поэта с небольшими сокращениями.
Николай ТИХОНОВ
ПЛАМЯ ОСЕТИИ
…Этот телефонный звонок раздался в мглистый, холодный день долгой ленинградской зимы. У меня был грипп, мне не хотелось никого видеть, и тем не менее я подошел к телефону. Я услышал незнакомый, чуть взволнованный женский голос:
— Можно ли прийти к вам? У меня есть один разговор. Мне нужен ваш совет.
— В какой области?
— Я пишу роман.
Она пишет роман! Сколько раз уже я видел таких домашних романисток, которые приносили рыхлые груды словесных кирпичей, не пригодных ни на что. Сколько раз они читали тяжелейшие отрывки, от которых слушающие тупели, как будто им сыпали на голову сырой песок большими мешками…
— Я не романист, почему вы обращаетесь ко мне?
— Потому, что вы любите горы и знаете Кавказ…
— Вы пишите роман о Кавказе?
— Да, я вас очень прошу меня принять…
Что-то было в голосе этой женщины убеждающее, я сказал:
— Приезжайте завтра вечером…
И она приехала. В комнату вошла женщина небольшого роста, в темном скромном платье, с открытым, энергичным взглядом, с той благородной простотой, которая свойственна горянкам, строгая, немногословная, решительная.
В ней была особая прелесть гордого и независимого существа; это была дочь гор, спустившаяся в большой город с его шумной, непонятной ей жизнью.
— Я знаю вас, но вы не знаете меня, — сказала она, — я — Елизавета Алексеевна Уруймагова, по-осетински — Езетхан…
— Вы — осетинка? Откуда?
— Из Христиановского.
— Из Дигоры. Скажите, Асланбек Уруймагов был из вашего рода?
— Да,— сказала она,— он погиб в бою со Шкуро, сражаясь рядом со своим кровником…
— Я знаю, что осетинка не говорит «мой муж», а называет его «господин моей головы» или «наш мужчина». Вы тоже так говорите? — сказал я шутя.
— Мой муж русский,— отвечала она,— я училась в Дигорской церковноприходской школе, потом в Дигорском высшем начальном училище, потом была студенткой литературного отделения Горского педагогического института в городе Орджоникидзе. Видите, я ученая горянка.
— И передовая,— сказал я.— Вы не только, вопреки всем старым обычаям, говорите с незнакомым мужчиной, но еще собираетесь читать ему свой роман. Вы написали роман, он с вами?
— Нет,— сказала она,— мой роман еще во многом в голове. Но я напишу его, чего бы это мне ни стоило…
Мы заговорили об Осетии, о Дигории, о местах, связанных с ее юностью, о том, как возникла у нее мысль написать роман. У нас нашлись общие знакомые. Чем больше я слушал эту необычную посланницу гор, тем сильнее убеждался, что она обладает умом и чувством, у нее острый взгляд на вещи, хорошая память, и я начал бояться того момента, когда она станет читать свой роман и очарование исчезнет, придется утешать ее, говорить ей незначащие слова, чтобы не обидеть хорошего человека.
Я уже хотел предложить ей оставить мне отрывки ее произведения, но она решительно сказала:
— Я прочту вам совсем немного. Если понравится, могу еще прочесть. Или рассказать еще о романе…
Тогда я предложил:
— Знаете что, ничего мне не говорите больше о романе, а просто читайте.
Она достала из тонкого портфеля синюю школьную тетрадку в линейку и начала читать сцену в лесу, где подстроено убийство тупоумного долговязого Дзобека хитрым, злобным стремянным Габо, чтобы обвинить в этом убийстве ни в чем не повинного Темура.
Дальше шли страницы, где крестьяне рубят самовольно лес всесильного Амурхана Туганова и дают взбучку его управляющему. Они были написаны живо, сильно. Видишь, как падают старые дубы и как горцы хватают лошадь управляющего и стаскивают его с седла, как они судят его народным судом.
— Почитать еще? — спросила она, кончив тетрадку.
— Читайте еще!
В новой тетрадке автор описывал дом жестокой, властной, потерявшей двух сыновей, одинокой Саниат Гуларовой, ее забитую работницу Марет, весь молчаливый ад гуларовского дома, несчастную маленькую девочку Хадизат, купленную для выполнения преступного замысла Саниат — получить наследника, чтобы не развеялось дымом ее богатство. Хадизат венчают с покойником, а отдают старшине Дрису, чтобы она родила хозяйке этого наследника.
Синяя тетрадка кончилась. Уруймагова вопросительно посмотрела на меня.
— А есть еще? — спросил я.
— Есть! — просто ответила она.
Я видел, что она волнуется, что ей хочется еще читать и читать и написанное ей нравится самой.
В третьей тетрадке шел рассказ про черного человека тех мест — Сафу Абаева. Жизнь его, перегруженная преступлениями, обманами, ложью, человеконенавистничеством, соединена была с жизнью Саниат Гуларовой железной цепью наживы и беспощадного угнетения людей.
Темные люди — темные дела. Три его сына — в отца, такие же мрачные, эгоистичные, жестокие. Четвертый, Владимир, пошел по другой дороге.
Были еще страницы про жизнь селения, про гибель жены Темура — беззащитной Разнят, затравленной злобой кулаков, и другие — где шли выгнанные помещиком семьи так называемых «временно проживающих» в неизвестную даль, в поисках пристанища, под ветром и дождем…
Тетрадки кончились.
— Очень жаль, очень жаль,— сказал я,— я бы хотел еще послушать.
— Я боялась отнимать у вас время, — сказала она, — у меня написано уже порядочно… Но с собой сейчас нет. Много набросано начерно. Я работаю все свободное время,— правда, у меня его мало. Большая семья, муж — военный, дети…
— Теперь расскажите мне про общий замысел: как вы представляете себе развитие вашего романа?..
Она охотно начала рассказывать, и по мере того, как она рассказывала, я совсем по-другому начинал смотреть на эту маленькую женщину, в которой жила такая большая страсть. Эта хрупкая на вид осетинка хотела поднять огромную тяжесть народного романа. Она хотела изобразить жизнь осетин за целые десятилетия. Она читала очень убедительно, и во время чтения я не обращал внимания на ее своеобразный русский язык, не запоминал неудачные места, мне хотелось слушать еще и еще — так увлекателен был рассказ, так драматично, искренне, сильно говорили и действовали выведенные ею люди.
Временами сцены достигали предельного трагизма. Она владела искусством сюжета, знала так народную жизнь Осетии, что ей не надо было справляться в словарях или в исторических исследованиях. Она представлялась мне скульптором, который начал работу над гигантской глыбой и достиг того, что из камня уже проступают отдельные фигуры и профили, но сколько еще нужно терпения, дисциплины, труда, времени, мучений, чтобы вся глыба ожила, превратилась в соединенную воедино толпу страдающих и борющихся людей…
— Знаете что, — сказал я, — то, что я вам предложу, мне кажется единственным выходом. Если вы на него не согласны — скажите, это ваше право. Вы читаете кому-нибудь ваши отрывки, спрашиваете у кого-нибудь совета?
— Нет, вы первый человек, которому я читала эти страницы. Я ни у кого не спрашивала совета, да мне и спрашивать некого. Рядом нет такого человека, что мог бы мне помочь в моей работе…
— Продолжайте писать по вашему плану, по вашему разумению до конца, скажем, первой части. Не показывайте никому, не читайте, не советуйтесь ни с кем. Только с собой,— все решайте сами. Пусть никто не спугнет неожиданную мысль, не смутит вашу направленность. Тем более что быт Осетии, жизнь народа мало кто знает так, как знаете вы. Скорей всего, критика со стороны может смутить необычность и неожиданность происходящего в вашем романе, и он просто не поверит правде вашего повествования. Подумает, что все это выдумано. Если вам понадобится, в крайнем случае, совет, пишите мне. Я отвечу обязательно, потому что вижу — из вашей работы выйдет большой толк… Не падайте духом, не торопитесь. Вам живется, наверное, не так уж легко?
— Мне живется трудно, но я сделаю так, как вы говорите. Но когда я приду с оконченной первой частью, вы должны мне помочь…
— Конечно! Помните, что вы вступаете, Елизавета Алексеевна, дорогая Езетхан, на долгий и трудный путь…
— Я не боюсь! Я осетинка, а мы, осетинки, женщины большой воли, большой выносливости…
Она ушла со своими синими тетрадками. Я смотрел ей вслед, взволнованный этой нечаянной встречей. Неужели ей, этой маленькой, тихой осетинской женщине, удастся первой во весь голос рассказать о родной Дигории?! Радуйся, дядя-почтальон из Стыр-Дигора, есть человек, который ответит на твой вопрос: «Кто расскажет о нас?»
Она расскажет, Езетхан Уруймагова.
Прежде чем я получил рукопись законченной первой части, прошло много-много дней. Ничего я не знал о том, где и как живет и работает моя зимняя гостья. Она исчезла. Но я, думая временами о ней, был внутренне уверен, что этот человек не бросит начатого труда и пройдет через все преграды, справится со всеми трудностями, потому что без этой страсти у нее нет настоящей жизни.
И действительно, по прошествии времени, я начал получать первые известия. Ее письма, написанные до того, как она прислала рукопись, полны мучительных сомнений, почти самоуничижения, но в них было и то, что говорило о работе, приходящей к концу. Надо ли говорить, что я поддерживал в ней дух бодрости и веры в себя, я хвалил ее талант, я сочувствовал, я благодарил ее за доверие и верность данному слову — никому не читать
Что же было в этих письмах? Вот некоторые отрывки.
Она писала:
«Вещь, которую я вам когда-то читала (отрывки), у меня недавно вышла из-под машинки. Московское бюро обслуживания печатало мне целый год «на досуге». И на том им спасибо, я не член ассоциации, а печататься у частной машинистки у меня нет средств. Теперь рукопись лежит у меня, и я не знаю: что мне с ней делать? Если бы я была уверена, что я умею писать, я начала бы работать над второй частью, но мою рукопись никто не читал…»
Она писала:
«Не стесняйтесь мне говорить правду, я не писатель, а потому не жалейте моего авторского чувства. Я просто любитель, и если любительский спектакль не удался, то продолжать больше не буду. Рукопись отдаю в ваше полное распоряжение… Если вы скажете, что годится, — я закончу последние две главы и начну работать над второй частью книги, если же не годится, то не буду больше писать…»
Но время шло, а я не получал рукописи, но получал письма:
«…даю вам слово, что скоро дошлю вам конец тома, а потом засяду за вторую книгу. То, что я веду цыганский образ жизни,— это сильно мешает мне (у меня муж военный). Я пятнадцать лет кочую за ним из одной казармы в другую. Ни один человек из окружающих меня людей никогда не сказал мне, чтобы я писала, а, наоборот, все мои близкие посмеивались над моей странной страстью писать, да вдобавок по-русски… Потом очень часто мне приходится корыто с грязным бельем оставлять, чтобы набросать на бумагу свои мысли, кухня, стирка белья, штопка чулок отнимает у меня 60 процентов моего времени, поэтому не ругайте меня, что я так медленно работаю…»
Я не ругал ее, я только удивлялся силе ее воли, ее упорству. И наконец я получил долгожданное письмо.
«Посылаю вам конец романа. Кое-что сократила сама, так как он мне страшно надоел. Не знаю только, как назвать его. У меня несколько названий… «Шумит Терек», «Бурлит Терек», «Дважды рожденная», «Осетины», «Аланы». Роман посвящаю Ленинскому комсомолу — моему учителю».
Я вспомнил, что она была одной из трех первых горянок, вступивших в комсомол в Дигоре.
Я читал дальше:
«…роман должен быть в трех книгах. Если не забыли — по вашему совету я закончила первую книгу началом империалистической войны. Вторая книга — империалистическая война и гражданская война в Осетии.
Третья — Осетия в наши дни, т. е. период с 1924 по 1937.
Том второй у меня весь готов, мне только надо сесть и начать работать…»
Наконец я получил по почте объемистую рукопись. Со сложным чувством приступил я к чтению и с еще более сложным окончил его. Это было произведение, где страницы наивные, неумело написанные, чередовались со страницами самой свободной изобразительной силы, порой действие было испорчено поверхностным изложением; пейзажи были олеографичны, как приложения к дореволюционной «Родине» или «Ниве»; драматичнейшие сцены перебивались условными разговорами провинциального «высшего общества»; осетинская живая действительность сменялась описаниями, полными протокольных выражений. Русский язык временами сильно хромал. Часто встречались примеры крайнего натурализма.
Но несмотря на все это пестрое, невозделанное, сложное литературное хозяйство, несмотря на язык, требовавший еще большой, внимательной работы, несмотря на все недостатки стиля и композиции, каким-то странным образом книга жила шумной, живописной жизнью и так волновала, что вы не могли отложить рукопись в сторону и с грустью сказать: «Забудем этот неудавшийся любительский роман из осетинской жизни».
С поразительной силой был описан кулацкий двор неистовой вдовы Саниат Гуларовой. Ее горе, ее гордость, алчность, ее жестокость, краски, какими был нарисован ее портрет, драма, разыгравшаяся в связи со смертью двух сыновей от холеры, ее отношения с Хадизат, с Са¬ фой — все это было превосходно. Гуларова походила на осетинскую Вассу Железнову, только более дикую и непосредственную в своих страстях.
Все, что касалось гор, Хадизат, Темура, истории его абречества,— все было убедительно и все было на месте.
Правдиво и страшно являлся перед читателем кулак Сафа со своим разнообразным семейством. Хороши были многие народные сцены…
Да, это была рукопись, над которой надо было поломать голову. Это был плод многих лет работы, а сколько еще надо работать над ней, чтобы довести ее до печати,— кто это знает! И что с ней сейчас делать?.. А может быть, я ошибаюсь, переоцениваю талант автора?
Я снял трубку и позвонил Слонимскому.
— Дорогой Миша,— сказал я,— не сердись, не кричи, будь милостив, выслушай. У меня есть рукопись, которую я умоляю прочесть…
— Слушай, я очень занят… Я буду читать долго. Она большая?
— Да, не маленькая, но читается с увлечением…
— О чем она?
— О Кавказе!
— Помилуй, но ты же сам знаешь Кавказ лучше меня. Зачем мне читать?
— Я тебя прошу прочесть, но с одним условием! Дай слово, что ты, как бы ни ругался, читая, как бы ни приходил в отчаяние, дочитаешь до конца.
— Это смешно, но даю слово! Но я буду читать долго…
— Читай, как позволит время, и помни, что ты дал слово…
После этого разговора Слонимский замолчал надолго.
Действительно, прошло довольно много времени, когда он мне позвонил.
— Послушай,— сказал он с некоторой растерянностью, — если бы я не дал слово, я бы, конечно, не дочитал ее. Это черт знает что! Это местами ужасно, я тонул в какой-то словесной каше, но слушай, это очень талантливо! Бесспорно, чертовски сильный талант! Но это же неотшлифованный алмаз! А кто его будет шлифовать? Не знаю, что делать!
— Я знаю,— сказал я.— Спасибо тебе, Миша. Больше мне ничего не надо!
В тот же день я написал Уруймаговой, что я прочел роман и думаю, что его надо дать в издательство, а так как она живет сейчас в Москве, то в московское издательство. И надо найти такого человека в редакторы, который знает Кавказ и хоть немного Осетию. Таким человеком может быть Юрий Либединский. Он пишет роман на кавказском материале — «Батай и Баташ». Он бывал в Осетии. Он, по-моему, согласится…
Я писал ей все, что думаю о ее произведении, и о том, что я верю в автора и в роман. Мне было ясно, что начинается долгая история, которая может кончиться неизвестно как, история нового многолетнего труда, но я не знал тогда, что понадобится целое десятилетие, чтобы роман из рукописи стал книгой и читатель получил его в руки. Но я твердо верил: это произведение не должно пропасть бесследно.
Уруймагова писала из Москвы:
«Главный редактор издательства т. Гранин принял меня снисходительно-вежливо, как принимали женщину с Востока в первые годы революции, улыбаясь, разглядывал меня, как редкую жар-птицу… Сказал, чтобы я, кроме них, ни к кому не обращалась, когда выправлю вещь, что он заинтересован помочь мне и т. д. Сказал, что Либединский очень хочет со мной познакомиться, помочь мне…»
После первого письма прошло пять месяцев, когда Уруймагова сообщила мне, что Либединский увиделся с ней. «Он принял меня очень хорошо, пожурил, что такая талантливая, но ленивая, обещал свою помощь во всех видах… он советует мне, чтобы я фамилию Кирова заменила бы другой фамилией, — тогда, дескать, вы развяжете себе, как художник, руки и создадите образ руководителя осетинских большевиков гораздо шире и полноценнее. Этого вопроса я еще не разрешила… Безусловно, если бы у меня вместо фамилии Кирова была фамилия Петрова, я чувствовала бы себя гораздо свободнее (было бы просторней художественному вымыслу), но не проиграет ли от этого сам роман?»
И снова неутомимая Езетхан углубилась в бесконечную работу над своим многострадальным романом.
Я представлял ее в домашней обстановке, как после своего семейного дня, в остающиеся ей немногие свободные часы, она правит и правит страницы рукописи, огромной, как разлившаяся река. Нет, назвать ее ленивой, зная условия ее существования, невозможно. И я знаю, что больше всего она нуждается в добром слове, в совете, в помощи, пусть издалека. И я пишу ей, критикуя, обнадеживая, подгоняя, утешая, потому что знаю, что ей нужен локоть товарища, слово друга…
1942 год. Вторая блокадная осень. Война метет железной раскаленной метлой леса, окопы, дороги, уносит тысячи человеческих жизней. Конца ей не видно. Мы оказались так далеко в ее мрачной области, что уже трудно представить себе мирную жизнь. Ленинградцы не знают, где их друзья и земляки, куда буря унесла знакомых. Вести приходят редко, и большей частью это грустные вести.
О многих моих друзьях у меня остались только воспоминания. А где они сами — на каком рубеже, в каком краю, в каком окопе? Когда мы увидимся, да и увидимся ли?
От меня только что ушел молодой лейтенант, новый друг. Он пишет стихи и воюет, он мечтает о мирных днях, и каждый день вокруг него воют смертные вихри снарядов и бомб. Мы говорили с ним о самом главном — о человеке и жизни, о нашем долге и призвании. Он из далекой Хакассии. Зовут его — Георгий Суворов.
Хакассия — это в глубине Сибири, и там не слышно выстрелов. Я беру карту Кавказа, и сердце мое щемит новая боль. Там, на Кавказе, уже стреляют, потому что фашистские орды вошли в его пределы и стремительно движутся к югу, к великой стене Кавказского хребта. Как это случилось? Но это случилось!
Чудовищно, — фашисты зашли так далеко, они громко кричат, что идут на Тбилиси и Баку. Танки их со своими черными крестами уже гремят в предгорьях, еще недавно живших мирной жизнью.
Нет, я должен в такие зловещие дни сказать свое слово друзьям, тем, на равнине, которую рассекает Терек. Тем, в горах, где пенятся Баксан и Чегем, Черек и Урух, Ардон и Асса!
Я беру перо и пишу свое обращение к народам Кавказа. Я знаю, что это только выражение личных чувств, моего гнева, моей ненависти к врагам родины, мое приветствие далеким собратьям, но я пишу. Я не могу не писать им в такие дни!
Я напоминаю им слова Кирова: «Мы должны сказать, что не только красота скрывается в горах Кавказа, но что эта цепь гордых скал явится той могучей преградой, о которую разобьются все силы реакции…»
Я обращаюсь попеременно ко всем народам Северного Кавказа, напоминая им былые подвиги их отцов и дедов, называя имена героев. Я посылаю это обращение в газету «Красная звезда», в Москву. Я не знаю, дойдет ли оно до защитников Кавказа. Потом я узнал, что оно дошло. Оно было отпечатано листовкой и распространено на фронте.
Тогда я не знал этого, но я видел, как далеко в горы зашли враги. У меня на столе лежало письмо Уруймаговой, прорвавшееся сквозь блокаду, помеченное июнем месяцем, написанное в селении Дигора. А тридцать первого октября немцы захватили Ардон, Дигору, Дур-дур.
А что, если они пошли дальше? Что, если в Стыр-Дигоре, где сияют своими снегами Лабода и Тана, уже хозяйничают альпийские стрелки — «эдельвейсы?» И в Махческе уже разорваны акты на вечное пользование землей? И снова Дигора горит, как в дни гражданской войны? И новая Кяба Гоконаева ведет за собой в атаку горцев? И погибает новый Хадзимет, убивая фашистского палача?
Придется Езетхан Уруймаговой писать четвертый том своего романа, иначе история осетинского народа не будет полной.
Я сижу в темной комнате в Ленинграде и вспоминаю далекие дни своих блужданий в благословенных горных краях. Сколько мне осталось жить на свете? А я уже был раз столетним старцем! Это нельзя забыть. Я сижу один и смеюсь так, что со стороны можно подумать, что я сошел с ума.
Я был в ауле Нар, прославленном месте, священном для осетина. Это родина Коста Хетагурова. За длинным столом мы сидели чинно, как положено на дружеской встрече. Но я был почетным гостем, а почетным гостем может быть только самый старейший. Моему соседу слева было сто три года, соседу справа — сто четыре. «Значит, будем считать,— сказали мне,— что вам сто пять. И вы можете сесть во главе стола».
Мне польстило, что мне сто пять лет. Я смотрел на своих соседей и хотел проникнуть в тайну их возраста, я смотрел на их темно-коричневые, как земля и камни, руки, еще крепко держащие стаканчик с аракой, я хотел следовать их примеру, но они пили араку гораздо быстрее меня, я не мог так пить. И все же я думаю, что не только мне, а и всем, кто сидел за столом, было весело, что мне сто пять лет.
Я шутя стал выдумывать, вспоминать, что я помню из своего детства, сто лет назад, и все смеялись, а я пил просяную, плохо очищенную водку, ел дзикку — молодой сыр, подогретый в котле, с пшеничной мукой, вкуснейшие яства — фыдчин — пирог с мясом и хабизджин — пирог с сыром, шашлык и даже суп, который подается только желающим, после мяса. Потом я танцевал в кругу молодежи, было весело, пели песни Коста и современные, Ардон гремел где-то за горой. Танцевали чепена. Неужели же и туда долезли гитлеровские поджигатели и палачи?
Мне вспоминалось и другое,— как закаленный в битвах гражданской войны Казбек Бутаев рассказывал: его позвал тогда Сергей Миронович Киров и предложил немедленно выехать в Чечню. Дороги там были опаснейшие, смертельные тропы. «Я говорю: «Не поеду!» — «Как не поедешь?» — «Зря только погибну, никуда не доеду, лучше я в бою в открытом погибну, у всех на виду, а так погибать, в одиночку, чтобы никто не узнал, как я умер, не хочу!»
— «Смерти боишься?» — сказал Киров. «Нет, смерти не боюсь, а, дело не сделав, погибать — это мне не годится!»
— «Слушай,— он говорит,— ехать нужно, знаю, что смертельная опасность есть, но и знаю, что ты все сделаешь и не погибнешь, а если погибнешь, я такую речь о тебе скажу на митинге всему народу, что весь народ о тебе заплачет. Хочешь, сейчас скажу?»
Что попало мне в голову — не знаю, но я закричал ему: «Скажи сейчас!»
Комнатка маленькая, ночь, лампа тусклая, мы один на один, а он встал, как будто действительно перед народом, и так говорил, что меня самого слеза прошибла. Когда он кончил, я помолчал, сказал только: «За такие слова умереть не жалко, я еду!»
Он меня обнял, и я поехал и все сделал. Бывало, не скрою, страшновато, а вот я сижу перед вами живой и, хотя по мне загробную речь уже сказали, еще долго жить хочу!»
Так я сидел в одиночестве и вспоминал героев далеких лет: Георгия Цаголова, Симона и Даукия Такоевых, Бедту Тихилова, что так похож был на Горького, Алихана Маряева, Деболу Гибизова и многих других.
Неужели опять на Кионском перевале, в пещерах в Черном лесу стоят партизанские костры и судьба людей на берегах бурного Ардона, как и Тихого Дона, закаляется в пламени небывалой борьбы?
И хотя среди бесконечных забот того тяжелого времени странно было думать об оставленных в мирные дни трудах, особенно о рукописях, не ставших в свое время книгами, но иногда я думал о несправедливой судьбе, которая преследовала талантливую писательницу, первую осетинскую женщину, смело писавшую годами добрую книгу о своем народе.
…Как однажды неожиданно и надолго исчезла Уруймагова, так же неожиданно она появилась на пороге моего номера в гостинице «Москва», в 1944 году.
— Вот мы и встретились,— сказала она, отступив и рассматривая меня. — Худой, сутулый, блеск в глазах… Я раньше такого блеска у вас не видела. Это от войны, наверно…
— А вы такая же, только чуть суровее и в глазах темный огонь. Это тоже новое. Этого я у вас до войны не видел…
— Ну, рассказывайте, — попросила она, — ведь мы ничего толком о Ленинграде не знаем… Говорите, не щадите меня, я тоже видела много,— ужасами теперь земля полнится…
Мы долго говорили о Ленинграде, о войне, о ее жизни в годы войны. Пришла испанская поэтесса с переводчицей, пришел английский журналист, я попросил Езетхан подождать, не уходить — я скоро с ними кончу беседу.
Когда все ушли, я спросил ее:
— Это вопрос и ко времени и не ко времени, сами на него ответьте, как хотите: как ваш роман, в каком он виде? Помните, что он должен быть закончен во что бы то ни стало. Можете работать еще и еще, но я вас силой заставлю дописать книгу.
Она улыбнулась и сказала:
— Иногда мне кажется, что вся эта история с романом мне снится. И вы снитесь, заставляющий меня годами работать день и ночь. Я уже совсем-совсем отойду от него — вдруг вы пишите и требуете, и я снова покорно сажусь, а работать очень трудно, но раз так жестоко от меня вы требуете, я буду работать. Сознаюсь, даже среди всяких тревог в нынешнее тяжелое время, когда все так трудно, я вдруг возвращаюсь к нему и хоть несколько страниц да отшлифовываю. Правда, правда…
— Война идет к концу,— сказал я,— это уже явно чувствуется. Вы прошли через многое, но я буду и впредь жесток и требователен, и вы от меня не избавитесь. Только не падайте духом…
— Я уезжаю в Баку, там у меня семья, там я работаю в военном детском доме, работаю корреспондентом в военной газете. Даю вам слово, что я оправдаю надежды… Я сама уже не могу не думать о романе…
Уходя и прощаясь, она сказала задумчиво и тихо:
— У меня бывают странные сны, находят странные фантазии. Смутно в ранних сновидениях юности, будучи еще босоногой девочкой, в степи, на кургане, карауля телят, я мечтала о человеке белом и холодном… Правда, это смешно? О человеке с голубоватыми заморозками в глазах. Вы помните пришвинскую «Фацелию»? Я не умею вам объяснить, но будет и у меня своя «Фацелия». Я напишу ее, потому что хочу, обещаю вам…
— А как хорошо думать, что горы Кавказа свободны, что враг исчез, как снег растаял, и следов нет…
— Увы! — сказала она. — Следы есть и долго еще будут чувствоваться. Много разрушений, жертв, крови, всего… Музей Коста разрушен! Мою родную Дигору освободили двадцать третьего декабря сорок второго года.
И Дур-дур в тот же день. До Стыр-Дигора они не дошли. Там все в порядке…
— Не пропадайте так надолго, — сказал я, — своим романом вы разжигаете добрый костер, и когда он полностью разгорится, издалека будет видно…
— Попробую подбрасывать дров, поддерживать огонь, как только могу!
12 июля 1947 года Уруймагова сообщила мне из Дзауджикау: «Пишу на радостях, рукопись мою приняли, заключила договор с издательством, увижу воплощенную мечту».
А через год книга была принята в «Советском писателе» в Москве. В это время на сцене Осетинского театра шла пьеса — инсценировка романа. Это был новый успех писательницы. «Поздравьте меня, какое у меня странное состояние, когда я слышу свои мысли со сцены».
Наша дружба не была богата встречами. Но зато письма говорили о многом. Я беру письма сорок восьмого года и читаю про то, о чем она вскользь когда-то говорила в наших редких беседах:
«В моих ученических дневниках целые страницы переписаны из Тургенева. Двадцать лет — больше с тех пор прошло, как я мечтала написать книгу об осетинах, но только на русском языке. Четверть того, о чем мечталось в юности, я сделала. Вы снова верите мне, что я окончу всю трилогию. И мне самой хочется верить, что я сумею. Мне хочется это сделать так сильно, как голодному хочется кушать. Спасибо вам, большое русское спасибо с низким поклоном за то, что не смотрели на меня снисходительно, что сразу говорили мне о плохом и о хорошем. Спасибо за то, что заставили меня поверить в мои собственные силы. Последнее мне было необходимо. Я сейчас полна необыкновенных светлых чувств ко всему русскому (в моем понимании), что так упорно, вопреки всему, вело нас к тому, что имеем сегодня. Простите за пафос, но мне хочется сказать вам какие-то необыкновенные слова (по-осетински я могла бы гораздо лучше), но не умею их найти на своем языке.
Если роман может печататься в Москве — это для меня большая честь, а для моей маленькой Осетии — гордость. Хочу дожить до того дня, когда посмею вас поблагодарить во всеуслышанье от всего сердца. Вы ждете вторую книгу трилогии — Кирова и осетинских большевиков. Обещаю — будет эта книга. Я сама одержима этой книгой. Киров — я знаю, как вам он дорог, как он органически вошел в вашу поэзию. Я хорошо понимаю, почему вам хочется увидеть эту книгу.
…Вы спрашиваете о моей пьесе. Да, это переделка части романа. Пьеса перенесла много критики. Боялись, что пьеса не будет понятна нашему зрителю. Идет пьеса с успехом с 10 мая. Говорят, что это осетинская «Васса Железнова». Сдала театру еще одну пьесу, но уже на современную тематику (колхозную). Пойдет в сентябре.
С театром пока связываться не буду, потому что должна зимой засесть за вторую книгу трилогии…»
Я написал ей немедленно, поздравляя с окончанием первой части, и между прочим писал: «Я очень рад, что вы окончили, наконец, ваш роман, над которым вы так героически трудились. Это, вероятно, очень хорошее ощущение, которого я, к сожалению, за свою долгую жизнь не переживал, потому что никогда не писал так долго одну вещь».
Она отвечала:
«Да, с уверенностью могу сказать, что такого ощущения вы не переживали… и не могли. Вы русский, и вы писали на русском языке. Первое слово, которое вы произнесли в детстве, было русское слово. Так отчего же вам было приходить в восторг? А я даже в процессе работы приходила в восторг от удачной фразы и впадала в унынье, если не выходило у меня по-русски (хотя писала по-русски). Как рассказать мне вам, что значило и значит для меня язык Русский? Написав книгу по-русски, я вроде даже уже и не женщина… Не смейтесь, бога ради, Николай Семенович! Я не умею вам это рассказать, но попробую.
Быть женщиной в дореволюционной Осетии, и вы это знаете, было небольшой честью (недаром девочку при рождении оплакивали). Мой отец имел пять дочерей (на которых не получал земельного надела). Я была младшая. Он проклинал свою жизнь, в том числе и дочерей. И однажды в минуту какого-то отцовского горя я (чтобы его утешить) пообещала ему совершить подвиг, который уравнит меня с мужчинами. Проходили годы. Умер отец, не дождавшись моего «подвига». Но как часто я мечтала о таком деле, чтобы не обмануть его, чтобы утешить, хотя бы мертвого… Писать по-русски мне было очень трудно, но… (боже мой) как заманчиво. И я не писала, а трудилась… Если б вы знали, что я чувствовала в тот день, когда я сдала книгу в издательство, когда мужчины впервые не здоровались со мной как с женщиной, а говорили со мной по-мужски, улыбались мне не как женщине, а как равной… А отец мой не дожил, хотя я стала уже и мужчиной… А если бы я умела петь такие песни, как Сулейман (поэтом быть лучше, ему восторженность не ставят в упрек!). Как часто мы недостаточно любим то, что должны обожать, боготворить. Вот мне, например, Советскую власть каким именем назвать? Какими словами о ней рассказать тем моим землякам, которые не умеют еще так видеть и чувствовать, как я?
Вы знаете, когда я была маленькой девочкой, я завидовала поповской прачке Устинье — она говорила по-русски, пела, читала по-русски (а мне казалось даже тогда, что она и смеялась по-русски). А спросили б если меня — какое событие в моем детстве было самым горьким? — я б сказала: «Толстой» и «Тургенев». В 1919 году, во времена Деникина, в доме отца остановились белые офицеры (один из них носил черную повязку на глазу). Когда они убегали, то этот, с повязкой, сунул в свой хурджин «Хаджи-Мурата» и «Записки охотника». Это были первые русские книги, подаренные мне русским начальником почты. Каждую ночь я списывала по две, по три страницы к себе в тетрадь, потом громко читала (ведь переписанное и мне уже принадлежало). Потом учила наизусть и с гортанным придыхом, нараспев говорила тургеневские пейзажи, «кладя на лопатки» русскую прачку Устинью. Теперь я смела «говорить» по русски…
А вы говорите, что никогда не переживали такое… Роман сдала в Осетинское издательство. Они приняли его с удовольствием. Пожурили, что написала по-русски, а не по-осетински. (А какими словами объяснить им, почему я писала по-русски?)…»
Сейчас, когда я вчитываюсь в эти письма, для меня по-иному звучат некоторые ее размышления. Тогда они казались случайными, но сегодня в них сквозит другая глубина. Например: «вообще, как плохо, что человеку дана одна жизнь, которую мы не всегда умеем как следует прожить. Хорошо б одну жизнь — на ошибки, а другую — на все разумное (последняя жизнь была б очень нудной)».
…Роман вышел в Осетии и в Москве. Но он назывался уже не «Осетины», а «Навстречу жизни». Сознаюсь, первое название мне больше нравилось. В нем не было нарочитости, оно просто обозначало самое главное, о чем хотел сказать человек, всю жизнь мечтавший донести правду о своем народе до широкого мира.
Езетхан Уруймагова взяла на себя, как писатель, нелегкий труд — разобраться в сложной картине взаимоотношений старого, дореволюционного осетинского общества.
Она смело изобразила впервые в осетинской литературе такие хищные, беспощадные, жадные до власти и богатства характеры, как Саниат Гуларова, как Сафа Абаев. Она же, как врач-хирург, вскрывала острым скальпелем гнойные язвы обреченного общественного строя и, как строгий и справедливый судья, вынесла приговор.
Никто не ушел от возмездия. Умерла Саниат, удушенная своим бывшим любовником Сафой, распалась, погибла семья Сафы и он сам, уничтожены революционной бурей все баделяты и их прислужники.
Темный мир должен был исчезнуть. Уруймагова сама была свидетелем его гибели и победного размаха революционной бури.
Она же, зная хорошо печальную судьбу осетинской женщины в дореволюционное время, оставила прекрасно исполненные портреты женщин Дигории, изображения большой реалистической силы.
…В феврале 1958 года я получил пакет. В этом пакете была вторая книга романа-трилогии «Навстречу жизни», изданная в Орджоникидзе. На книге была надпись: «Если бы автор был жив, вы были бы первым, кто получил бы эту книгу. Уважающая вас дочь Уруймаговой Лемза».
Я знаю, что эта вторая книга издана после смерти автора, и никому не известно, сколько в ней не хватает страниц по замыслу писателя. Третьей книги не будет.
Одной жизни не хватило на выполнение огромного замысла. Но то, что сделано, — тоже много для одной жизни…
Я лежу в густой сухой траве. За мной стоят высокие могильники Даргавса — безмолвного города мертвых. Надо мной синее небо, подо мной долина и река, которая несет свой поток на Гизельдонскую плотину. Через дорогу, над рекой, на скалах,— дома селения Даргавс. Над ними нет дымков, и не видно людей на площадках перед домиками. Жители ушли на «плоскость» — на хорошие большие земли. Может быть, там, в темных комнатках, еще стоят трехногие, треснувшие от старости столики — фынги, скамейки, на которых направо сидели мужчины, налево — женщины. Хмуры потухшие очаги, жалки ненужные кадушки, в которых в соленом рассоле когда-то хранился сыр…
За селением в запустении — молитвенная постройка, где стояли котлы и чаны для священного, праздничного пива и тонкие веревки перегораживали вход, чтобы никто не смел войти раньше положенного времени и дотронуться до запретных вещей.
Я на границе старой и новой Осетии, на границе старого и нового мира.
Большая жизнь продолжается под этим синим, горным небом, и эта большая жизнь на «плоскости» и в горах имеет большую память о годах и людях. И книги, рожденные жизнью, помогают памяти, помогают новым поколениям. «Не все кончается смертью», — сказал один поэт древнего мира, и это верно.
Я вижу далеко в горах костер. Его пламя растет, кто-то подбрасывает в него сухой рододендрон или смолистые ветви. Это костер пастуха или мирного путника — все равно, он красив, он мне нравится!