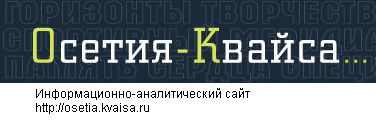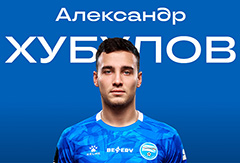Главный режиссер Вахтанговского театра Анатолий ШУЛЬЕВ: «Гений тот, кто вне нормы»
В конце прошлого сезона в Театре имени Вахтангова наконец появился главный по художественной части — Анатолий ШУЛЬЕВ. И на сегодняшний день он самый молодой из главрежей и худруков Москвы — ему всего-то 33. А он в академическом театре со 100-летней историей теперь командует.
Интересно, как у него пойдет. Пока же мы знакомимся с ним и говорим об особенностях Кавказа, влиянии гор на личность, гениях прошлого, актерских шипах и что значит быть вне нормы.
В Москве я сказал себе: «Я приехал на родину»
— Толя, в твоем назначении много совпадений. Ты родом из Владикавказа, как и два предыдущих его худрука из четырех — сам Евгений Вахтангов и Рубен Симонов. Ты — третий и теперь главный человек в театре. Может, ты обучался в той же гимназии, где и Евгений Богратионович?
— Нет, я окончил школу с углубленным изучением английского языка. Но, если честно, у меня нет большой склонности к иностранным языкам. Если бы я оказался в языковой среде, уверен, что говорил бы через месяц.
— А осетинский понимаешь?
— У меня в школе были уроки осетинского, так что основы и лексику знаю. Хотя корни у меня из Белоруссии, откуда мама, а отец со Ставрополья. Они приехали во Владикавказ учиться в горно-металлургическом институте и чтобы ходить в горы. На Кавказ тогда людей тянуло.
— Кавказ легко отпускает?
— Когда я впервые приехал в Москву, я сказал себе: «Я приехал на родину». Может быть, сказались корни, которых мне не хватало в Осетии, но здесь я действительно почувствовал, что это моя родина. Москва с ее шумом, бурлением мне очень подошла. А Кавказ воспитал меня в консервативных ценностях — уважение к семье, к старшим, и это хорошо. Даже в отношении искусства я не пользуюсь терминами свобода—несвобода. Для меня есть понятие хаоса и порядка: свобода — это хаос, можем называть это как угодно, но все равно хаос, который все убивает. И порядок, который все замораживает. И то и другое — ужасно, поэтому главным для меня остаются баланс и гармония.
Болтливых на Кавказе меньше уважают
— По знаку зодиака ты — Весы? Спрашиваю тебя как типичного представителя этого знака.
— Я — Скорпион. А за балансом обращаюсь как раз к Кавказу. С ним меня связывают еще и горы. Я езжу туда, чтобы отключиться от всех связей с внешним миром. Когда забираешься на высоту две-три тысячи метров, там никакая связь не работает. И, таким образом, на неделю ты остаешься наедине с феноменом природы, монументальным ее феноменом, чтобы почувствовать себя маленьким, частью большого космоса. Ночью ложишься на коврик рядом с палаткой, и густота звездного неба настолько велика, что все, что тревожило меня, становится неважным. Поэтому какие бы испытания мне ни приходилось переживать, горы меня перезагружают, и в сентябре в Москву я возвращаюсь нормальным.
— Лучше гор могут быть только горы? В нынешней обстановке они — единственное спасение для человека?
— Тут очень важно не остаться на турбазе, где есть мобильная связь. Потому что она все равно тебя притягивает к переживаниям, к рутине, изо дня в день заставляет тревожиться. Надо повыше уйти с палаткой, чтобы осознать: мы не то, что происходит с нами только в городе, и что мы даже не люди, а нечто большее, и сами про то не знаем. В горах это особенно сильно ощущается. Каждый человек в течение года должен пройти такую перезагрузку.
— В перезагрузке не должны участвовать жена, дети, родители?
— Почему? Всех надо брать с собой. Только телефон не надо брать. Но самое большее, что я мог себе позволить, — это две недели без телефона. Помню, как два года назад что-то в мире бурлило, но что именно, до сих пор не знаю — просто связи не было.
— Я заметила, что ты в театре не сильно разговорчив и как художник красиво не поешь. Это тоже влияние гор, Кавказа?
— Мужчина должен быть содержательным. Он не должен болтать языком и лить много воды. Болтливых на Кавказе меньше уважают. И люди там более добродушные, спокойные.
Я был очень наивным
— Как случилось, что ты стал театральным режиссером, ты ведь всегда хотел снимать кино?
— Я действительно приехал в Москву поступать на кинорежиссуру, но не поступил — череда совпадений, которая и есть судьба. Если так подумать, у меня вообще-то долгий путь.
— Ну, в 33 года он особенно долгий.
— Так мне кажется, может, потому, что я рано — в 16 лет — экстерном окончил школу. Поехал в Москву поступать во ВГИК на кинорежиссуру и был уверен, что мне откроется там великое будущее. Я был очень наивным. Поэтому, естественно, не поступил, хотя моя работа прошла, и у меня была первая встреча с Владимиром Хотиненко. Я, конечно, пытливый и страстный человек, но был очень неопытным для того, чтобы заниматься режиссурой. Во ВГИКе мне объяснили, что сначала надо посмотреть жизнь, чтобы было что рассказать. Я строптивился, но все же поверил и пошел на актерский, где шансов поступить у меня точно было больше, чем на режиссуре. Но учась на актерском, я каждый год поступал на режиссерский и в конце концов поступил к Римасу Туминасу в театральный институт.
— Получается, ты предал свою мечту — работать в кино?
— Но я же не знаю, для чего я предназначен. Просто у меня есть желание, есть внутренние возможности, и я так или иначе пытаюсь их прикладывать. Я снимал короткометражные фильмы, и как сейчас вспоминаю, они мне не очень нравились. Но, повторюсь, наивный был.
— А сейчас ты искушенный?
— А сейчас я пишу — как сценарист. Уже сериал написан, и надеюсь, что в следующем году он запустится в производство, а я окажусь в новом качестве. А Римас Туминас был интересен всегда. Я помню, что поначалу он к нам присматривался с большим недоверием. Он непредсказуем: казалось, вот ты нашел, каким должен быть режиссером, и тут же получаешь от него жестокую оплеуху. Он был мягок по жизни, но чтобы от нас чего-то добиться, в моменте истины совсем не жалел нас.
Сейчас я понимаю, что это было правильно, иначе мы ничего бы не поняли. Помню, как на показах на третьем курсе он комментировал одну мою работу. «Шел, шел человек по дороге, — сказал он про меня, — и не дошел, умер». Очень был строг. Но потом у меня случился спектакль «Король умирает», и мы поиграли его в Театре Вахтангова, поездили с ним по фестивалям.
Стараюсь не быть властным, помыкающим артистами
— Тем не менее, несмотря на успех спектакля, ты оказался не в Вахтанговском, а в Театре Маяковского, где поставил несколько спектаклей. Почему Туминас тебя сразу не взял в Вахтанговский?
— Римас Владимирович, когда мы закончили у него учебу, сказал, что лучше начинать в чужой труппе, где молодой режиссер проверяется на прочность. В Вахтанговском тебя все знают, твои друзья играют в твоих спектаклях, но это неправильно — надо оказаться в чужом месте. Театр Маяковского — мягкий театр, поэтому мне повезло. Там я нашел доверие и от худрука Миндаугаса Карбаускиса, и от актеров. Мне очень понравилось работать со Светланой Немоляевой, с Игорем Костолевским. Они очень реализованные артисты, поэтому у них нет шипов.
— А у нереализованных есть шипы?
— Еще какие.
— И сильно ты изранен ими?
— Ой, трудно сказать. Но если бы я истек кровью и не поднялся, то тогда — да, мог бы сказать, что был изранен. А так эти раны заживают и кусочками брони становятся. Хотя нет, брони у меня нет — я стараюсь настолько быть открытым и широким, что если бы копья летели, то они бы пролетали мимо меня.
— Артисты любят обвинять режиссеров в жестокости. А между тем они сами могут так обидеть, такую боль причинить режиссеру, даже с именем. Какую боль от артиста можно получить? Защити свой цех.
— Молодой режиссер легко может получить предательство. Но артистов можно понять — они вообще беззащитны. Я-то их люблю и очень хорошо понимаю их страдания, их агрессию. Поэтому стараюсь не быть властным, издевающимся, помыкающим артистами. Только через любовь, потому что хочу, чтобы ко мне так же относились.
Но предательство можно получить, потому что в театре много центров силы, а молодой режиссер, пришедший в театр, таким центром не является. На него смотрят как на человека, и даже талантливого человека, который, может быть, принесет успех, может быть, откроет для артиста неизведанное. А может быть, все провалится, и артисты станут частью этого провала. Каждый режиссер должен через это пройти. И через провал в том числе. Ведь профессионализм — это когда твой результат, твой замысел находятся рядышком, и чем ты профессиональнее, тем ближе будет замысел.
И еще я понял, что не надо вести за собой тех, кто тебе не верит. Сразу на подступах надо проверять людей — в творческом, техническом составе — и отсекать. Теперь я отсекаю. Но бывает, что сам ошибаюсь с распределением ролей, и тогда говорю: «Ну, прости». Я уверен, что любой актер может гениально сыграть роль, нужно просто найти ему место. И чем чаще актер находит место, тем лучше его карьера выглядит.
Научную фантастику театр не переваривает
— Когда в Театре Маяковского ты ставил «Старшего сына», не было ли опасений, что твой спектакль будут сравнивать с уже ставшим классикой фильмом Виталия Мельникова, где есть эталонный Сарафанов — Евгений Павлович Леонов?
— Я потому и стал ставить «Старшего сына», что возникла такая мысль — Костолевский–Сарафанов трагичнее Сарафанова–Леонова. Я видел Игоря Матвеевича за кулисами, видел в нем огромный комедийный потенциал в сочетании с его фактурой романтического, трагического героя. Мне показалось, что вот такой Сарафанов, высокий, красивый, заброшенный в провинциальную дыру и который как композитор должен был собирать залы, сделал ставку на семью. Но тем страшнее для него наблюдать, как эта семья разваливается.
— Ты ставишь классику — русскую, советскую, зарубежную. А современная пьеса тебя принципиально не интересует? Сознательно ее не берешь?
— Сознательно. Я в последнее время даже такую формулировку себе придумал, и сейчас она начнет в полной мере воплощаться: театр для меня про прошлое. Самое красивое уже было. Современность неуловима, она пока не оформлена, и к ней трудно подступиться — так даже Римас Владимирович говорил. И я люблю эстетику, которая была в прошлом, и для меня театр переосмысливает сегодняшний день через прошлое. А кино я больше люблю про будущее — фантастику, триллер. И пишу я такие вещи. А живу настоящим.
— То есть тебе не слабо пугать зрителя физическими ужасами или завиральными идеями относительно будущего?
— Дело в том, что до двенадцати лет я хотел заниматься физикой, и она меня до сих пор не отпускает. Если посмотреть на мою книжную полку, то там треть художественной литературы, треть — театральной, а треть научной, в основном по физике.
— При таком интересе к науке не собираешься ли освоить эту территорию в театре? Тем более что удачных примеров постановок, связанных с наукой и людьми науки, немало, особенно в европейском театре.
— Что касается научной фантастики — театр ее не переваривает. И в зрительном зале в фантастику не верят. Но театр все-таки больше про красоту, про эстетику. Почему гении все в прошлом? Потому что они испытаны временем. И поэтому мне интереснее брать литературу прошлого.
Я попросил Добронравова написать одно письмо отцу Моцарта
— Вот к вопросу о гениях. Незадолго до твоего назначения главным режиссером ты как штатный режиссер выпустил в Вахтанговском успешный спектакль «Амадей» с Гуськовым и Добронравовым в главных ролях. И там используешь кукольный театр, о котором почему-то вдруг вспомнили режиссеры драмы. Что это — дань моде или ты так любишь кукольный театр?
— В этом спектакле передо мной стояла конкретная задача — рассказать про гения, и, с какой бы стороны мы ни подошли к первому появлению Моцарта, невозможно было другими средствами показать, что он гений. Поэтому мы выбрали такой способ, чтобы показать, насколько Моцарт популярен в мире, если в Вене на каждом перекрестке можно купить его куклу в красном камзоле. И в «Амадее» таким образом снимаем первый шлейф восприятия его: будто мы ждали гения, а он появился в виде куклы. Зато его второе явление — уже Виктор Добронравов в образе Моцарта. Живой человек, который волнуется по поводу своего первого выступления в Вене: у него даже руки свело, а жена Констанция пытается его успокоить.
Вот в «Амадее» я больше работал с фигурой Моцарта, чем с автором. Когда соприкасаешься с такими большими личностями, сам растешь над собой, потому что узнаешь много необычного. В театре я ищу великих людей из прошлого.
— К каким источникам ты обращался, работая над воплощением этого гения музыки?
— Много всего было, включая письма Моцарта. Я их дал читать Вите Добронравову и попросил его написать одно письмо отцу Моцарта. И Витя написал для второго акта письмо, в котором есть фрагменты из многих писем композитора. Моцарт их зачитывает, обращаясь не то к Богу, не то к отцу.
Если мы каждого второго начнем называть гением, то и гениев не останется
— Ты можешь объяснить, кто такой гений?
— Вся штука в том, что есть человек, есть гений и есть космос, в котором он творит безгранично. Вот Моцарт в три года научился музыке, и с тех пор его язык — музыка. Он описывал, как не мог уснуть, потому что его трясло, что, возможно, было проявлением болезни. Но успокаивался он только тогда, когда садился за инструмент и часами импровизировал. Сосед ему притаскивал бутылку вина, Констанция читала детские сказки, и он в это время погружался в музыку.
А в жизни Моцарту как человеку нужно было соблюдать определенные правила морали. Он у меня в спектакле часто оказывается на полу — просто валяется. И для него это не вопрос. А для любого человека, одетого в костюм, — вопрос: с чего это я должен валяться? То, что Моцарта ограничивает как человека, способствует возникновению парадокса гения — в музыке он ничем не ограничен и много чем ограничен в жизни. От этого возникает ощущение, будто он аморален, пьяница, изменщик, болтун. Эти качества нам кажутся недостойными его: мы восхищаемся его музыкой и жалеем как человека.
— Здесь, согласись, есть тонкая грань: гений тот, кто вне нормы, или сознательное нарушение нормы дает повод считать себя гением? Отличная уловка, к которой прибегают больше наглецы, чем талантливые люди, которые просто скромнее.
— Только время проявляет гениальность. Думаю, что через сто лет наши потомки скажут, были ли люди, о которых вы говорите, гениями или нет. Но я за то, что гений тот, кто вне нормы, потому что это редкость. А если мы каждого второго начнем называть гением, то и гениев никаких не останется. Некоторые современные тенденции в мире мне не нравятся: нормой делают то, что за пределами нормы. Крайности для того и должны существовать, что они крайности. А вот середина должна быть крепкой.
В этом театре много любви направлено на меня — не знаю, за что
— В Театре Вахтангова ты теперь главный по художественной части. Чувствуешь себя начальником?
— Я чувствую себя человеком с большими возможностями, которые можно превратить в творческие достижения. Я чувствую себя в кругу единомышленников, потому что с людьми там мы разговариваем на одном языке. У них и у меня один и тот же учитель — Римас Туминас. У нас вкусы похожи, и среди них я ощущаю некоторое бесстрашие. И именно в этом театре много любви направлено на меня — не знаю, за что. Может, она досталась мне по наследству? И здесь много надежд. Это меня самого окрыляет и освобождает, защищенным себя чувствую. Чувствую, что много хорошего могу сделать.
Я стараюсь быть чутким, то есть слышать людей. Не себя им навязывать, а услышать, брать в работу и пуститься с ними в путешествие. Я доверяю артистам, хочу, чтобы они не через истерику, психоз шли к результатам. Когда артист понимает, что он идет на репетицию не в трясущемся состоянии и в страхе, что его там будут распинать, он бежит в театр, вместе со мной желая открыть что-то и в себе, и в реальности. Профессионализм и любовь — вот это и есть искусство.
— В Театре Вахтангова опытнейший директор, а тут ты, молодой режиссер, да еще с Кавказских гор, с перезагрузкой. Ты его не боишься?
— Нет, я его люблю. Кирилл Игоревич — живой, трудолюбивый, бесконечно занимается работой, а не имитирует бурную деятельность. Мы вместе с ним уже общались со многими режиссерами, видели макеты, и надеюсь, что у нас в этом сезоне будут события и удивления.
Марина РАЙКИНА
«Московский комсомолец», 22 октября 2023 г.
Портретное фото – Александра Авдеева