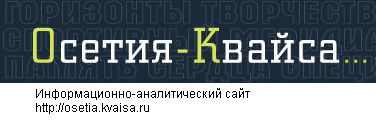Персона: ГЕРГИЕВ
// Главный музыкант России – он кто? Версия Павла ГЕРШЕНЗОНА
В Москве на прошлой неделе завершился 11-й Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. Впрочем, любая другая неделя, как правило, тоже дает повод написать об этом человеке — так много он всего делает. О главном музыканте современной России — знаменитом и одновременно неизвестном — ЕКАТЕРИНА БИРЮКОВА расспросила ПАВЛА ГЕРШЕНЗОНА, архитектора по образованию, культуролога по призванию и многолетнего сотрудника Мариинского театра — по записи в его трудовой книжке.
Екатерина БИРЮКОВА: Вы, Павел, человек скорее балетный. Я — оперный, и хочу спросить у вас про Гергиева. Но давайте не зацикливаться на отношениях Гергиева с балетом, оперой и оркестром, а попробуем ответить на более общий вопрос. Гергиев — он кто? Он прежде всего музыкант или такой современный император?
Павел ГЕРШЕНЗОН: Я человек не балетный, я человек сторонний — это первое. Второе, а точнее, первое, самое главное: спешу предупредить, что я восхищаюсь Гергиевым — это один из самых причудливых и экстравагантных персонажей, которых я встречал в своей
жизни, он даже снится мне иногда по ночам. И я всегда буду бесконечно благодарен ему за то, что он позволил нам (группе товарищей) на протяжении нескольких счастливых лет делать в Мариинском театре то, что мы не смогли бы сделать больше нигде. То, что я сейчас скажу, — это маргиналия, комментарий на полях сияющего панегирика, вынесенного за скобки. У английского историка архитектуры Рейнера Бенэма есть замечательная книжка, которая называется «Личный взгляд на современную архитектуру». Вот что-то подобное, личный взгляд, где Гергиев — не совсем конкретный человек с конкретной профессией, это собирательный образ, фантом, сильфида, артефакт, fa?on d’?tre, социокультурный феномен, парадоксальный результат взаимодействия художественных и внехудожественных божественных движений. «Гергиев».
Теперь про то, о чем вы спросили: дирижер Гергиев — император чего? Священной Римской империи? Недавно я видел чудесный рекламный плакат: «Петербурженка — императрица колбасного вкуса». Эти слова были наклеены на пухлое лицо то ли Валентины Ивановны Матвиенко, то ли Екатерины Великой, то ли обеих сразу — не помню точно, меня захватил смысл.
Человек, размахивающий руками три с половиной часа «Аиды» перед сотней музыкантов в оркестровой яме, плюс двести человек на сцене, плюс две тысячи за спиной в зале — он кто? И вот тут мы неизбежно попадаем либо в дымовую завесу гламурного журнализма, с его рассуждениями про харизму (ну да, харизма, а дальше-то что?), либо в капканы, расставленные социокультурными анализаторами (это мне ближе), например: Караян был музыкантом или символом процветающей аденауэровской Германии с ее искусственно возделанным комплексом вины вперемежку с постнюренбергскими махинациями по поводу членства в нацистской партии? Мути — в первую очередь музыкант, лично проведший за роялем полное представление «Травиаты» (оркестр отказался играть с ним), или узурпатор свободолюбивой и капризной Ла Скала? Баренбойм — музыкант или еврейский пройдоха, обвиняющий любого критика в антисемитизме? А Тилеман — музыкант, лишившийся берлинских ангажементов за антисемитские высказывания, или символ немецкого неонацизма? И так далее, и тому подобное. Есть много книг и фильмов, прекрасных и бездарных, написанных и снятых на эту тему, так что, думаю, полезно снизить пафос в разговоре об этих monstres sacr?s. Ведь еще Стравинский пытался найти верную интонацию, когда называл дирижеров экспертами по самолетным расписаниям.
Я не раз видел Гергиева-музыканта. И когда много лет назад слушал с галерки Мариинского театра Восьмую симфонию Малера, и когда переживал за балетных, нервно танцующих вместе с Гергиевым «Рубины» Стравинского-Баланчина (это было лучшее исполнение этого балета, которое я видел), и совсем недавно, когда слушал мою любимую «Валькирию». Но чаще я видел смертельно уставшего человека с потухшим взглядом, вынужденного говорить с людьми, которые ему не интересны, которых он презирает, которые почему-то назойливо трутся вокруг; человека, вынужденного принимать административные решения в сферах, находящихся за пределами его компетенции, потому что кроме него некому принять эти решения, а некому потому, что он сам так все устроил, замкнув на себя все, потому что никому не доверяет, особенно почему-то опасается толковых людей; человека, который хотел бы наконец выспаться, но это невозможно, потому что театр, с которым непонятно что делать, разворованные стройки и все эти холопы и идиоты. Кто мне объяснит, зачем он много лет позволяет развешивать по городу бездарные плакаты фестиваля белых ночей, где, подобно чертям на занавесе Бенуа к «Петрушке», угрожающе зависает над Петербургом. Недавно один мой знакомый, весьма востребованный западный хореограф, признался, что смертельно устал и больше не может жить с ощущением, будто назанимал кучу денег у бандитов и они поставили его на счетчик. Мне кажется, Гергиев мог бы сделать подобное признание.
И, упаси вас Боже, никакой он не император. Хотя бы потому, что оперный театр в современной России никакого отношения к империи не имеет. Это и не бриллиантовый салон, как при последних Романовых, и не шикарный балаган, как при Сталине, и не номенклатурный отдел МИДа и Интуриста, как при Брежневе, — это типологически невнятное черт знает что, на билете которого печатают не моргнув: «наименование услуги: опера “Бал-маскарад” ». ФГБУК «Академический Мариинский театр», еще есть ФГБУК «ГМЗ “Царское Село”» — так, кажется, сейчас эти объекты любовно называются. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры. Видите, слова «Мариинский театр» пишутся в кавычках, а «Царское Село» даже в двойных кавычках, и говорит это о том, что это не совсем Мариинский театр и совсем не Царское село, это как бы Мариинский театр и как бы Царское Село. Симулякр, эрзац, фикция. Ведь на самом деле это не учреждения культуры, а объекты недвижимости, здания, земли, ближние и дальние поместья и угодья, которые наши сюзерены посещают с мазохистским любопытством — поглазеть, что осталось после того, как вассалы все растащили, потому что наивной детской потребности послушать оперу или благоговейно оцепенеть перед Камероновой галереей у наших императоров не воспитали. Ну не эстеты они, не меломаны, не Жаки Шираки, Пушкина переводить на французский не будут, скучно им, и комплексуют. Вы можете их представить закатывающими глаза под рулады Лючии ди Ламмермур?
БИРЮКОВА: А может у нас быть просто театр? Без начальства?
ГЕРШЕНЗОН: Как это — без начальства? В том-то и дело, что просто городским народным театром с галдящей в антрактах публикой оперный театр в России никогда не был. Вот президент Италии ежегодно 7 декабря входит в муниципальный театр Ла Скала через главный подъезд вместе со всеми (и охраны не видать, попрятались). В России всегда есть спецподъезд. И если в этом подъезде заржавел замок, то кажется, что что-то происходит не так. Вам, наверное, незнакомо это тоскливое ожидание театральной администрации: приедут — не приедут, приедут — не приедут, приедут — не приедут. Не едут. Такие времена. Короче, Гергиеву в этом смысле не повезло. Не стать ему ни трагическим Фуртвенглером (с последующими угрызениями совести) при известном политическом персонаже-меломане. Не стать ему и героическим Тосканини при также печально известном итальянском политике. Сегодня и трубы пониже, и дым из них валит пожиже. Негероическое время отменяет героические жесты. Так что будем милосердны: Гергиев — музыкант, работающий в предложенных общественно-политических обстоятельствах. Чиновник федерального уровня. Не министр, конечно, но министру возразить легко может. И вот нажал я как-то кнопку своего запылившегося телевизорного пульта, а там — уважаемый премьер-министр, беседует с публикой. А в первом ряду публики — Гергиев, которого уважаемый премьер-министр как бы невзначай ставит в неловкое положение (ну-ка, ответьте нам всем, зачем вы у Большого театра артистов воруете?), унижает, путает с начальником другого театра, не федерального, а муниципального, как бы не узнает. И Гергиев неловко улыбается и что-то такое бормочет в свое оправдание, типа это не я, это он. И нам смотреть на это неловко.
Но он, Гергиев, все же большой хитрец. Он сам себе придумал, как быть императором и как отдохнуть. Время, проведенное за пультом, — единственное время для Гергиева, когда он остается один, чувствует себя демиургом и — как бы поточнее выразиться — ну, скажем так, отдыхает. Вы, конечно, возразите, какой же это отдых за пультом? Я отвечу — активный отдых. Потому он и Вагнера/Малера/Штрауса любит, что долго и с кайфом можно отдыхать от мирской суеты — часов эдак пять.
БИРЮКОВА: Хорошо, тогда такой вопрос. Вот это его бесконечное дирижирование. Каждый день. Иногда по нескольку раз в день, причем в разных точках земного шара. Оркестранты (если речь идет о собственных, подневольных) валятся с ног. Качество сами знаете какое бывает — потому что все время разные программы. Но кажется, что он не может остановиться, что иначе что-то плохое произойдет, исчезнет точка опоры. Вы правда считаете, что это такой активный отдых у человека? Или это спортивный азарт, одержимость, ритуальный экстаз, допинг, что-то еще?
ГЕРШЕНЗОН: Спортивный азарт он вполне избывает на футболе — он профессиональный футбольный фанат. Одержимость — ну, в шестьдесят лет будучи «мегазвездой», как он сам себя называет, сложно страдать одержимостью. Одержимость — это, по-моему, что-то розовощекое, юношеское. Ритуальный экстаз? Я видел пример подлинного экстаза в финале второго акта транслировавшейся из Метрополитен «Валькирии», когда камера в последние секунды выхватила Ливайна — он, действительно, был уже где-то там. Но дирижеры так часто симулируют ритуальный экстаз, что перестаешь в него верить. А вот допинг — это точно. Ничего необычного в этом нет — меломания как допинг. Как дансомания, которой страдал Нуреев. Поначалу ему физиологически необходимо было выходить на сцену. Быть на сцене значило не быть за сценой, где начиналась патологическая сексомания. В последние годы все превратилось в психоз: Нуреев был в ужасной форме, танцевал чудовищно, безобразно, это было жалкое зрелище, но ему было наплевать, ему нужно было быть на сцене, что-то там такое делать, смотреть в зал, кланяться. Я поостерегся бы называть это осмысленной художественной деятельностью. Вообще, неприятно барахтаться в болоте подсознания, хочется всему найти какое-то рациональное объяснение. Потому я без шуток и говорю про активный отдых Гергиева: все это по возможности непрерывное дирижирование — это такая эмиграция, эскапизм, уход от реальности, объективная причина, по которой ты сейчас, ура, можешь не принимать какие-то решения (ты же за пультом), которые тебе все равно придется принимать, но ты не знаешь, как правильно. Гергиев с трудом принимает решения там, в «реале», где он многого не понимает и очень во многом не разбирается (например, где хорошая архитектура, а где плохая или что делать с этим долбаным балетом), но он же Генеральный директор и нельзя показывать ничтожным людишкам свои сомнения, свои метания, свою слабость, свою неуверенность в себе и свою паническую боязнь быть обманутым. А здесь, на пригорке, за пультом, полуоглохший от оркестровых тутти, в этих райских кущах звуковой виртуальной реальности он кайфует, здесь он уверен в себе, здесь он профессионал, большой музыкант, звезда и все такое…
БИРЮКОВА: «Реал» — это, в нашей ситуации, поддержка Путина, будем говорить прямо. Следствие — фырчание фейсбука (впрочем, с Хаматовой не сравнить) и недоумение в европейской прессе. Хотя у меня, честно говоря, эта тема вызывает неловкость — наверное, из-за какой-то несопоставимости масштабов действующих лиц.
ГЕРШЕНЗОН: А, вы про это… Кстати, вы не знаете, куда делась Елена Ханга? Гергиев рекламировал Путина? Надо же, какая неожиданность… Извините, я не очень в курсе бурной политической жизни внутри Садового кольца, я на окраине Питера живу… А почему вы решили, что, говоря про Гергиева, говорить про Путина — это прямо, а не косо? Ну рекламировал Гергиев Путина, что с того? Он и костюмы миланского дома мод Ermenegildo Zegna рекламировал, и фирму Philips. Во-первых, не посторонний ему человек Путин: говорят, вроде крестный одного из гергиевских детей, почти родственник. Во-вторых, а кого еще рекламировать Генеральному директору государственного Мариинского театра? Зюганова, Явлинского, Прохорова? Вот станут они премьер-министрами или президентами — он и их порекламирует. Гергиев и с Лужковым дружбу водил, и Ельцина поддерживал, и башню «Газпрома», потому что нельзя превращать город в мертвый музей, и проект Доминика Перро, и тех, кто был против проекта Доминика Перро, потому что он стал потом против варварства и за сохранение исторической среды. Давайте еще спросим, поддерживает ли он Махмуда Ахмадинежада и Ким Чен Ына, он против пропаганды гомосексуализма или за народ Палестины? Вот Мадонна против тех, кто против пропаганды, а Гергиев за палестинцев? Загляните в список спонсоров Мариинского театра — там все за Путина, включая Сбербанк и фирму Bombardier. Это же как в музыке, как на симфоническом концерте: за пультом стоит дирижер, перед ним оркестр, объявлена Фантастическая симфония Гектора Берлиоза — не может же концертмейстер, предположим, виолончелей исполнять в этот момент «Пасторальную» Бетховена, его сочтут сумасшедшим. И, кстати, хорошо, что Гергиев Путина поддержал — это говорит о том, что он (Гергиев) еще не совсем потерял ощущение реальности, решив, что Мариинский театр его личная собственность, он еще понимает, что он — всего лишь наместник, что если что не так (не поддержит или не того порекламирует), то могут и вотчины лишить.
Дальше: вы говорите о несопоставимости масштабов, а я уже говорил о длине труб и густоте дыма. Я уже говорил, что не надо примерять терновые и лавровые венки Фуртвенглера и Тосканини на несчастную голову Гергиева. Ну не меломан Путин (пусть даже на пианино играет), чтобы желать наслаждаться на своем дне рождения «Одой к радости» в исполнении хора и оркестра Заполярной филармонии, а потом через рампу обмениваться нежными рукопожатиями с маэстро. И нет у Гергиева аппенинского темперамента синьора Тосканини, чтобы послать здесь всех (и Путина, в частности) подальше, взять семью, хлопнуть самолетной дверью и к восторгу менеджеров заняться наконец вплотную Лондонским симфоническим оркестром.
Что до тревог и недоумений европейской прессы, то вы можете себе представить, чтобы интендант лондонской Королевской оперы публично высказался против Британской монархии? Не представите. Потому что Королевская опера — истеблишмент, так мне в свое время сказал бывший директор Королевского балета Энтони Дауэлл. Да и в предвыборной драке между лейбористами и консерваторами личное мнение интенданта Королевской оперы не интересует ровным счетом никого. Мало ли что думают о Бараке Обаме Питер Гелб, Дебора Войт или Джеймс Ливайн вместе с Фабио Луизи. Они, конечно, что-то думают, но думы свои реализуют в день выборов в частном порядке за занавеской избирательной кабины.
Давайте оставим в покое Гергиева, Пиотровского, Иксанова, Табакова и прочих великия и малыя, и белыя и черныя, и правыя и левыя. И Хаматову. Давайте не будем заниматься фэшн-демагогией на манер капризной девушки Собчак, меняющей мировоззрения и политические пристрастия (они же — артистические амплуа), как кофточки, и лучше спросим ее (девушку Собчак), кормит ли она бесплатными обедами детей-инвалидов в своем ресторане «Твербуль», что не в Бирюлеве открыт, а на Тверском бульваре. Не гергиевы-пиотровские плохи, когда говорят за Путина или против Прохорова, — подонки те, кто не дают им тактично промолчать и не заниматься вещами, выходящими за пределы их профессиональной компетенции. Не наши несчастные учителя, заложники эрзац-выборов, ужасны — сволочи те, кто размещает избирательные участки в наших школах. Это же как разместить ракеты, бьющие по злейшему врагу, во дворе жилого дома или больницы, а потом вести подсчет жертв среди мирного населения. Разместите избирательные участки в банках, офисах нефтяных компаний, в отделениях милиции или ЖЭКах. Учителя должны детей учить, а не сгорать от стыда под изничтожающими взглядами «наблюдателей» из родительских комитетов. Так что давайте будем аккуратны в обсуждении темы «поэт и царь». Это сфера великой литературы и великого кинематографа, а мы с вами не Ханна Арендт и Клаус Манн. Я, к примеру, человек маленький, и мои представления о «реале» маленькие, меня интересует не Путин в Гергиеве (здесь все более или менее прозрачно и понятно), а вполне прозаические вещи: зачем и что такое 378 концертов на Пасхальном фестивале и 849 представлений на фестивале разводки питерских мостов; почему в Концертном зале показывают оперы-балеты, подвешивая к уникальным акустическим потолкам дурацкие штанкеты и софиты — зачем скрипкой Страдивари забивают гвозди; что такое и зачем Мариинка 1, 2, 3, 33, 43, «Борис Годунов» под проливным дождем на Соборной площади Кремля, участие в освящении Астраханского оперного театра (вы это видели хотя бы на картинках? — это что-то культурологически экстраординарное: впервые в мировой истории оперный театр был построен в типологии обнесенной шестиметровым забором загородной дачи областного начальника); зачем сидения в президиумах экономических форумов, деканство в университетах, для чего саммиты, встречи, расставания, там фестиваль, тут гала-концерт, заседания, жюри, комиссии? Кому это нужно? При чем здесь Мариинский театр, тот, который «1», он же единственный. Как в этом мутном супе разглядеть траекторию карьеры — художественной карьеры, — когда голубой период сменяется розовым, высокий ренессанс оборачивается барокко, импрессионизм — постимпрессионизмом и на протяжении пяти часов «Зигфрида» стиль композитора радикально трансформируется. Где покой и сосредоточенность? Где тишина? Где музыка-искусство? Ведь Гергиев вроде как музыкант — и совсем неплохой, а местами даже просто великолепный. Алло, гараж, здесь есть место для Чайковского, Прокофьева, Стравинского, Вагнера, оперы и, прости Господи, балета? Вы, конечно, скажете, что для Чайковского — гомосексуалиста и педофила — точно нет…
БИРЮКОВА: Да вы что, у меня язык не повернется такое выговорить…
ГЕРШЕНЗОН: А у меня повернется, я грубый, неизящный и повторю, что сегодня для Петра Ильича Чайковского, любителя молодых и очень молодых мальчиков, места в нашей жизни нет — так решили сексуально невостребованные завистники с сальными глазками и потными ладошками из нашего питерского Заксобрания, а скоро так решит и ваша Мосгордума, потому что, как нас учил бессмертный сериал Sex and the City, у жителей столичного мегаполиса с сексом всегда большие проблемы.
БИРЮКОВА: Вернемся к искусству и тишине.
ГЕРШЕНЗОН: Так вот, когда на премьере «Анны Карениной» в Мариинском театре поезд неловко сходит с рельсов и с грохотом отправляется прямиком в оркестровую яму, где притаились сотня лабухов и Гергиев на приступочке, тут я начинаю понимать Гергиева — сегодня в этом театре без Путина, увы, не обойтись.
БИРЮКОВА: Бог с ним, с Путиным. Лучше поговорим о сопоставимых по масштабу явлениях, это и правда интереснее…
ГЕРШЕНЗОН: Нет уж, вы сами завели эту пластинку про Путина, она долгоиграющая. Тем более, я не говорил, что величие Путина несопоставимо с масштабом Гергиева и наоборот. Не шейте мне дело. Оба — серьезные парни: вчера ночью я видел трансляцию из Мюнхена, где Гергиев в слишком быстром темпе потрясал баварскую буржуазную публику Ленинградской симфонией Шостаковича, баварская публика благодарно рыдала; сегодня — смотрел по телевизору инаугурацию Путина в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, где по сему случаю тронное место с горностаем как-то неловко и стыдливо прикрыли фанерной выгородкой, декорированной архитектурными мотивами сталинского зала заседаний Верховного Совета СССР, который и был на этом месте на протяжении всего ХХ века (от судьбы не уйдешь); потом Путин долго прорывался сквозь строй нашей элиты, элита дружно и благодарно тянула к нему руки и губы, вместо того чтобы, как полагается в подобных случаях, просто присесть в глубоком книксене, что было бы гигиеничней (интересно, вырвавшись из этого коридора, Путин промокнул руки проспиртованной салфеткой?). Как-то это очень напомнило мне знаменитые обходы Гергиевым недр Мариинского театра… Понимаете, меня страшно бесит, когда тема контакта и контракта артиста с властью, этого договора с дьяволом, подается грубо, вульгарно, с презумпцией виновности. В свое время Вадим Гаевский довольно точно высказался на эту тему: «В СССР кое-кому удавалось прожить незапятнанную жизнь, и объяснялось это только тем, что обстоятельства жизни складывались для этих людей фантастически удачно». Вот этой удачи, этого фантастического везения — избежать соприкосновения с властью — нашим деятелям культуры фатально не хватило. Не будем их за это осуждать…
БИРЮКОВА: Давайте поговорим про другое. Все мы помним огромный период в творческой жизни Валерия Абисаловича, когда он в любом своем словоизъявлении (а речи Гергиева — это отдельная, удивительная тема) не мог миновать одной фамилии — Черняков. Это была какая-то мания. Заноза. Гнойник. Однажды я их наблюдала в одном пространстве — им нужно было поговорить по делу, но они просто физически не могли друг к другу приблизиться. Как будто две планеты, которые взаимоотталкиваются. А ведь через пару лет у них совместная постановка в Мет — как думаете, это будет взрыв?
ГЕРШЕНЗОН: Взрыва не будет. Впрочем, про какой взрыв вы говорите, психологический, административный или художественный? Я надеюсь на художественный взрыв. А в остальном все будет хорошо. Черняков все сделает сам. Основной интеллектуальный, психологический груз выдержит именно он. Он придумает этот спектакль. Гергиев здесь ему не помощник.
То есть, он, конечно, поможет — когда у Чернякова все уже будет готово, — приедет и обеспечит вместе с прекрасным оркестром Метрополитен финальный вброс адреналина, на который он такой мастер (недавно мы вместе с вами остро ощутили нехватку Гергиева в амстердамском «Китеже», да и Черняков как-то признался, что в некоторых европейских работах ему очень не хватало Гергиева-музыканта). Но, если серьезно, о чем Гергиев будет говорить с Черняковым? Для неторопливых застольных бесед у Гергиева просто нет времени. Впрочем, время при желании всегда можно найти — а можно и потерять, чтобы, не дай Бог, не обнаружилось, что сказать-то особо нечего, что отчаянно не хватает образования (я не про музыкальное образование говорю), художественной культуры. Все эти суетливые сценографы, режиссеры, костюмеры, что ты можешь им посоветовать, как ты можешь оценить их работу? Но не будем требовать от дирижера невозможного — мы ведь не знаем, о чем Висконти говорил с Джулини, когда они делали «Травиату» для Каллас. Может, они обсуждали, в какой ресторан пойдут после репетиции. В 1995 году я пытал сценографа Цыпина на тему, видит ли Гергиев, — Цыпин отвечал уклончиво и политкорректно. Понимаете, Гергиев вообще не помощник в театральном деле — точнее, не эксперт (помочь-то он как раз может — дать деньги, например, или обеспечить «крышу», как это было у нас во времена «Спящей» и «Баядерки»). Гергиев равнодушен к театру в принципе. Он — человек филармонии с большой буквы, как и многие именитые его коллеги, вступающие в осенний период своей карьеры. Так он ее, Новую Петербургскую Филармонию, за несколько лет блестяще и раскрутил (с помощью своей преданной адъютантши Алисы Мевес), шутя заткнув за пояс темиркановскую.
Теперь по поводу «взаимоотталкивания планет». Мне-то кажется, что это как раз взаимопритяжение — с возбуждающим ощущением финальной катастрофы, как в знаменитых кадрах «Меланхолии» фон Триера, когда под вступление к «Тристану» одна планета наезжает на другую (хотелось бы понять, кто в нашем случае Земля, а кто — грозящая Земле гибелью Меланхолия). Но вообще-то, все проще. И тот, и другой (Гергиев и Черняков) сделали друг для друга достаточно важные вещи: Гергиев впервые представил западной публике продукцию Чернякова, а Черняковым подписаны едва ли не единственные осмысленные театральные произведения, сделанные в Мариинском театре за почти четверть века царствования Гергиева. И, казалось бы, все замечательно, но тут возникают некоторые осложнения.
Есть две фундаментальные особенности личности Гергиева. Первая — отношение к людям как к собственности (сейчас скажу красиво: это делает Гергиева в чем-то похожим на Висконти; не то Феллини, не то Антониони рассказывал, с каким выражением лица Висконти разглядывал людей — будто они его собственность), как к мебели. Твой комод стоит в углу, ты им пользуешься, засовываешь туда белье-рубашки, любовно выдвигаешь ящички, когда у тебя сентиментальное настроение и тебе приятно в них порыться, и с грохотом их захлопываешь (иногда ногой), когда ты раздражен. Это твой комод, он всегда к твоим услугам. И вдруг на твоих глазах (и на глазах твоих друзей, родственников и уважаемых тобой людей) этот комод молча выходит из комнаты и отправляется в неизвестном направлении. Ты испытываешь крайнее изумление от поступка твоей собственной вещи. Сначала ты пытаешься отмахнуться, тебе кажется, что это сон, потом понимаешь, что это наяву, что комод действительно ушел. Это вызывает детскую обиду, ты бросаешь обвинение комоду в предательстве (естественно, общих интересов, например Мариинского театра). Потом ты успокаиваешься, внушив себе, что без тебя комод все равно погибнет, превратится в щепки, в пыль. Но идет время, и комод не только не превращается в пыль — он начинает жить собственной жизнью: ты читаешь в газетах о его успехах, ты узнаешь из телефонных разговоров, что другие люди распахнули перед ним двери, натерли его жирной мастикой и поставили в красивом интерьере, нежно открывают и закрывают ящички и складывают туда свои надушенные вещи. И как с этим жить? Таких ситуаций у Гергиева было несколько, они хорошо известны и, мне кажется, адекватно объясняют то, что в определенные моменты Гергиев с маниакальным упорством начинает публично возвращаться к одним и тем же именам. Инстинкт уязвленного собственника: Сомс Форсайт до последней минуты повторял имя Ирэн.
Вторая особенность (увы, отменяющая сравнение с Висконти) — некоторая, как бы сказать помягче, провинциальность сознания. Гергиев органически не в состоянии самостоятельно понять ценность персоны, с которой его свела жизнь. То есть, он, конечно, что-то там такое чует — если не масштаб (это опасно!), то полезность. Но ему обязательно нужны подтверждения каких-то высочайших инстанций — знаки внимания к персоне со стороны тех, кто его самого признает и уважает (лучше, если справку выдаст The Financial Times или просто The New York Times, местные сертификаты он не принимает во внимание). Это плохо. Это говорит о неуверенности в себе, дезориентации в пространстве культуры и искусства (здесь театрального). Это не Дягилев (легковесные французы пытались сравнивать в газетах Гергиева с Сергеем Павловичем). Дягилев был уверен в себе. Дягилев был самоуверен. Но самое главное — Дягилев умел страстно любить, и эта любовь давала ему необыкновенную смелость, дерзость навязывать общественному мнению своих протеже, новых «гениев» — создавать моду. А Гергиев… Кого он полюбил, кого страстно и во что бы то ни стало хотел увидеть на Олимпе, на кого завел моду? Один раз он прыгнул выше крыши, когда внезапно стал исполнять по всему миру музыку Щедрина, чем, кажется, Щедрина страшно изумил.
БИРЮКОВА: Ну, это несправедливый наезд! Одна из самых ценных черт Гергиева — это как раз отсутствие боязни по отношению к новым людям. Разве нет? Мы же постоянно видим все новые имена в его империи, одни исчезают, другие приживаются. Очень много мусора. Но бывают и удачи. Это такая же экстенсивная стратегия, как и в репертуарных, и географических подвигах. Но человек явно не боится кота в мешке. Тот же Черняков ведь так возник?
ГЕРШЕНЗОН: Не совсем так. Чернякова привел за руку другой Дягилев. Но я не знаю, есть ли у Чернякова сегодня планы работать не с Гергиевым в Метрополитен или где-то на Луне (и там, и там он будет делать это с огромным удовольствием), а у Гергиева в его театре. Спросите Гергиева, когда у Курентзиса ближайшая премьера в Мариинском, какой оперой продирижирует в следующем сезоне Владимир Юровский или Кирилл Петренко, какое название выбрал для постановки Додин (Хамдамов уже выбрал — он лет десять назад сделал чудесный макет для «Травиаты»). Спросите Гергиева, почему Форсайт запретил прокат своих балетов в Мариинском театре, хотя артисты танцевали их блестяще (кстати, задайте Гергиеву вопрос на засыпку: в Мариинском-II будет хотя бы один репетиционный зал для балетной труппы?); почему Макгрегор ставит балеты в Большом театре, а не в Мариинском, хотя он появился в Мариинском театре задолго до того, как я притащил его в Большой. Где шедевры Матса Эка, который залез на крышу театра, чтобы сфотографироваться с императорской лирой; почему Ван Манен не ставит здесь «Большую фугу»? И ведь все эти люди — не мусор, и уж точно не коты в мешке, но почему-то они не приживаются… Конечно, во всех театрах во все времена была и есть масса внутренних административных, финансовых и психологических осложняющих обстоятельств; к примеру, врожденный инстинкт власти всегда подразумевает окружение, состоящее преимущественно из мусора (читайте ту же Ханну Арендт). Но дело в том, что никогда еще в своей истории Мариинский театр не был в такой степени персонифицирован одной личностью, пусть и трижды гением. А если так, то я, маленький человек, имею право задавать эти неудобные вопросы у подножия монумента величию.
Я не говорю, что Гергиев боится людей, я предполагаю, что Гергиев устал от людей и хочет остаться один. Надеюсь, он хочет остаться наедине с музыкой (а не наедине с пустым городом — как его alter ego). Но это уже не театр. В театре всегда топчутся люди.
Разумеется, я не могу учить Гергиева руководить — это было бы комично, тем более что я пару раз наблюдал его в роли гениального Директора Театра — такого нового Гирингелли или Либермана. Больше того, я уверен, что, когда эпоха Гергиева уйдет в историю — ведь все прекрасное когда-нибудь заканчивается, — потомки будут вспоминать его со слезами благодарности, как сегодня в Ла Скала вспоминают Мути те, кто вынес его из Ла Скала. И чтобы закончить этот волнующий и не очень приятный для меня разговор, процитирую самую короткую рецензию, напечатанную много лет назад в питерском журнале «Сеанс»: «Очень хочется помочь режиссеру. Не знаю, как».?
Openspace.Ru, 17.05.2012