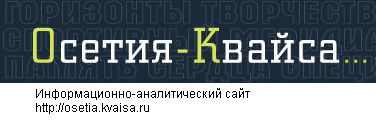Нетленная мудрость горца
// Нафи ДЖУСОЙТЫ – 100 лет
 Сегодня – большой юбилей большого творца и патриота. Обладатель фундаментальных знаний, глубокий ученый-исследователь, поэт, прозаик, драматург, публицист, знаток национальной культуры, Нафи Григорьевич снискал общекавказскую и общероссийскую известность, ярко заявив о себе еще в советское время.
Сегодня – большой юбилей большого творца и патриота. Обладатель фундаментальных знаний, глубокий ученый-исследователь, поэт, прозаик, драматург, публицист, знаток национальной культуры, Нафи Григорьевич снискал общекавказскую и общероссийскую известность, ярко заявив о себе еще в советское время.
Убедительным подтверждением этого служит публикация в «Литературной газете» 1972 г., которую с некоторыми сокращениями мы воспроизводим к знаменательной дате.
В дискуссионной статье скромный представитель Южной Осетии бросил творческую перчатку не кому-нибудь, а Белле Ахмадуллиной и Борису Пастернаку. Нет-нет, не как блистательным поэтам, чьими творениями наслаждались и наслаждаются миллионы, а как поэтам-переводчикам.
По сути, Нафи сформулировал в этой программной рецензии ключевые вопросы одного из сложнейших разделов литературы – качества переводов поэтических произведений с точки зрения их органического единства с оригиналом. И сделал это с таким знанием дела, настолько аргументированно, что издание Союза писателей СССР предоставило столь нетривиальному мнению весьма значительную газетную площадь – для периферийных литераторов явление довольно редкое.
ОБМАНЧИВАЯ ПРЕЛЕСТЬ «ИГРЫ БЕЗ ПРАВИЛ»
 В своей книге на балкарском языке «Когда созревает кизил» (Нальчик, 1969) Кайсын Кулиев опубликовал стихотворение «Ай жарыкъ кече» («Лунная ночь»).
В своей книге на балкарском языке «Когда созревает кизил» (Нальчик, 1969) Кайсын Кулиев опубликовал стихотворение «Ай жарыкъ кече» («Лунная ночь»).
B «Литературной России» от 22 сентября 1972 года это стихотворение появилось в переводе Беллы Ахмадулиной. Вот подстрочный перевод стихотворения, почти дословный:
ЛУННАЯ НОЧЬ
Лунный свет на каменистой дороге. Дерево.
Иду дорогой. Иду ущельем.
Лунный свет на скалах. Река.
Лунный свет. Ночь.
Дорога суха. Ночь.
Белые горы. Над вершинами – луна.
На снегу луна.
На обрыве луна.
На камнях ограды – луна.
Лунный свет. Ночь.
Камень сухой. Ночь.
И на зеленой кукурузной бахче – луна.
И на умолкших жердях ворот – луна.
И над домами села – луна.
И над всем миром – луна.
Лунный свет. Ночь.
Не плачь в эту ночь.
А вот и его перевод, то есть его «двойник» на русском языке:
ЛУННЫЙ СВЕТ
Лунный свет. Зрачка мученье.
Сухо. Лунный свет. Легка
Поступь. Лунный свет. Ущелье.
Скалы. Лунный свет. Река.
Лунный свет. Белейший верх
Гор. Дорога. Человек.
Лунный свет. Обрыв. Ограда.
Лунный свет. Ожог меж век.
Крыши. Лунный свет. Не надо
Плакать, горы. Лунный свет.
Лунный свет на белый свет
Пал. Сухие камни. Снег.
Лунный свет на кукурузе.
На воротах лунный свет.
Лунный свет. Мгновенность грусти.
Лунный свет. За веком — век.
В эту ночь не плачь, о нет.
Лунный свет. Высокий снег.
В стихотворении Кайсына Кулиева мне хочется указать на объективные данные и сопоставить их с переводным текстом, а не излагать свое, субъективное прочтение.
Вот заглавие – «Лунная ночь». Буквально: луно-светлая ночь – ай жарыкъ кече. Словом, здесь есть и «лунный свет» и «ночь». Вот почему в рефрене, поставив только точку, автор получил: «Лунный свет. Ночь».
Можно ли это переводить как «лунный свет»? Думаю, что нет. В заглавии уже есть тот световой и цветовой образный контраст, на котором держится все стихотворение: лунный свет н ночная темь.
Ахмадулина подчеркнуто, с нажимом повторяет «лунный свет», и на этом образе возводит «свое» произведение.
Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Но дело вот в чем: в подлиннике односложное, легкое и сияющее слово «ай» (луна) то там, то сям мигает светлячком и не бросается в глаза, а в переводном тексте «лунный свет», как железный шампур, пронизал все стихи от начала до конца, занял почти половину пространства в каждом стихе и стал навязчивым, нарочитым повтором, резко и узурпаторски отвлекая на себя все читательское внимание.
Ахмадулина вообще пропустила все, что касается «ночи», противостоящей «лунному свету». И от образного контраста ничего не осталось. Все сведено к одному лунному свету. Между тем совершенно очевидно, что основных строфах светло, спокойно, идиллично лишь потому, что рефренных двустишиях тревожно, там неотвязно и акцентированно повторяется в конце каждого стиха «ночь».
В рефрене свет и тьма сведены лоб в лоб («Лунный свет. Ночь»), но рефренные стихи в целом как своеобразный контраст противостоят еще и основным строфам. Ничего подобного в переводном тексте нет.
Кайсын всем образно-эмоциональным движением стихов подводит к заключению – «не плачь в эту ночь». Ахмадулина же начинает «плакать» уже в первом стихе («Лунный свет. Зрачка мученье»).
Кайсыну присуще естественное развитие образа, реалистическое, вещное видение мира, мужественно-сдержанное движение эмоций… Светло над миром, но свету противостоит тьма. И все-таки «не плачь в эту ночь!…».
Вот так естественно, изящно, без нажима и нарочитой резкости подводит Кайсын к мужественному разрешению накопившейся в рефренных стихах тревоги.
Ахмадулина начинает c этой тревоги. И чтобы удержаться на этой тревожной волне до конца, она разрывает стихи на отдельные слова точками, словно воронками от авиабомб; дергает их частыми интонационными паузами и переносами, не свойственными поэтике Кайсына. И вместо неторопливого движения эмоций, хранящих благородную тревогу в своей сокрытой глубине, получаем мельтешение зрительных впечатлений и нарочитую вздыбленность чувств – мужество оборачивается суетливостью, совершенно чуждой Кайсыну и как поэту, и как личности.
Словом, в переводе произошла полная подмена психологической, нравственной и эмоциональной атмосферы подлинника, что, по-моему, пуще всего возбраняется искусству перевода.
Нет в переводе Ахмадуллиной бережного отношения даже к формальным особенностям стиха подлинника. У Кайсына в первых двух строфах короткие строчки в пять слогов заключены в объятия длинных (восьмисложных) строк и лишь третья строфа составлена на одну рифму с редифом восьмисложных строк. Рефренные стихи тоже пятисложны. И разве все это нельзя было воспроизвести без растягивания стиха на два лишних слога?
Стихи в подлиннике исключительно музыкальны. Короткие стихи – сплошные рифмы. И, конечно, они никак не сопоставимы с приблизительными рифмами и нервными, сравнительно жесткими стихами Ахмадулиной.
Итак, к сожалению, ни на каком уровне они – подлинник и перевод – не сопоставимы.
Мне не хочется говорить о достоинствах стихотворения Ахмадулиной независимо от подлинника. Это иной сказ. Но очевидно одно: талантливый поэт так волен писать, но так переводить нельзя. Перевод не должен быть «игрой без правил», плодом ничем не ограниченного переводческого произвола. И менее всего простительно это именно талантливому поэту, с бездарных толмачей и спрос невелик.
Казалось бы, произвол в переводе – явление, бесспорно, отрицательное, особенно, так сказать, в «принципе», в теории. Но нет! Именно среди теоретиков нашлись защитники «переводческой вольницы».
…Между тем произвол нельзя оправдать никаким авторитетом. Произвол начинается там, где переводчик навязывает автору подлинника свою волю, Я против такой подмены даже в том случае, когда «вариант» переводчика более приемлем.
Защитники переводческой вольности ссылаются еще на то, что, мол, в хорошем переводе присутствие «духа переводчика» необходимо. Всем известно, что это неминуемо, если у переводчика есть самобытная поэтическая индивидуальность. И ни один разумный человек с этим не станет спорить.
Однако необходимо установить: где и чем вправе проявить переводчик свою личность? Мне кажется, что «дух переводчика» проявляется уже в самом выборе переводимого автора и произведения. Кто переводит все, что предлагают издательства, тот начисто лишен какого бы то ни было «духа».
Ярко сказывается личность переводчика и в том, как полно и тонко разгадывает и усваивает он законы, по которым создано переводимое произведение. Однако талант переводчика обнаруживается прежде всего в том, насколько верно сумеет он перевыразить из подлинника то, что в принципе доступно изобразительным и выразительным возможностям его родного языка.
И, наконец, самая ответственная сфера проявления всех способностей и интуиции переводчина – компенсация потерь. Подлинник в переводном аналоге что-то теряет в своих достоинствах и что-то обретает в виде компенсации за них. Кто не мирится с этим, тот вообще против переводимости, ибо потери неизбежны, – и тогда не о чем говорить. Но, признавая, что потери неизбежны, мы должны согласиться, что личность переводчика ярко проявится в том, как верно угадает он границы неизбежных потерь и сколь органично сольется с духом подлинника то, что он прибавит к нему от «своего золота».
Стало быть, требование верности оригиналу вовсе не предполагает изгнания «духа переводчика» на воссозданного им произведения (это вообще невозможно), но ограничивает присутствие этого духа пределами законов, по которым создан подлинник…
Нафи ДЖУСОЙТЫ
«Литературная газета», 22 ноября 1972 г.