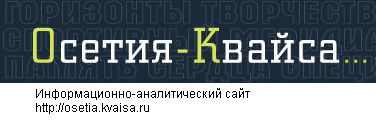Солидарность по-осетински, разочарование по-ингушски
 Публикация Вадима Дубнова «Кавказ особого назначения» (журнал «Знамя», №2, 2011) привлечет внимание тех, кто занимается кавказскими проблемами и просто интересуется ситуацией на Кавказе. Взгляд человека на регион, не проживающего там, всегда любопытен. Особенно интересен он бывает тогда, когда свежее восприятие сочетается с базовыми знаниями кавказских реалий и попыткой вычленять главное из множества малосущественных деталей. Хотя именно детали всегда и бросаются в глаза более всего.
Публикация Вадима Дубнова «Кавказ особого назначения» (журнал «Знамя», №2, 2011) привлечет внимание тех, кто занимается кавказскими проблемами и просто интересуется ситуацией на Кавказе. Взгляд человека на регион, не проживающего там, всегда любопытен. Особенно интересен он бывает тогда, когда свежее восприятие сочетается с базовыми знаниями кавказских реалий и попыткой вычленять главное из множества малосущественных деталей. Хотя именно детали всегда и бросаются в глаза более всего.
Сложно сказать, насколько характерна ретроспектива, нарисованная Вадимом Дубновым, для всех республик Северного Кавказа. Применительно к Северной Осетии написанное им нельзя назвать очень уж глубоким проникновением в то многогранное переплетение, которое сегодня реально существует. При желании каждый может найти немало спорных утверждений. Возможно, как и у многих хороших аналитиков, многое осталось «за кадром», отложившись до других времен. Но, несомненно, и те мазки, которые оказались предоставлены публике, заслуживают, как минимум, прочтения.
Безусловно, Дубнов не из тех бойких корреспондентов, которые, впервые попав в специфическую кавказскую среду, с легкостью, не вникая в суть, не только «фотографируют» увиденное за два дня, но и делают смешные выводы и выдают еще более смешные готовые рецепты. Кавказская тематика для Дубнова, еще со времен его работы в журнале «Новое время» – не внове. Другое дело, что у нынешнего обозревателя Русской службы «Радио Свобода» свои политические предпочтение и интересы. И это, понятно, накладывает определенный отпечаток на тональность публикации и на то, что называется подтекстом.
Представляем читателям сайта «Осетия-Квайса» две главы из публикации «Кавказ особого назначения» (полный текст – здесь).
ИНГУШЕТИЯ
Полковнику никто не верит
Где в этих местах заканчивается Чечня и начинается Ингушетия, можно догадаться только по руинам, которые когда-то были селом Бамут — это Чечня. Пять километров по разбитой дороге без единого намека на административную границу — это уже Ингушетия, село Аршты. И никто не возьмется сказать точно, за какими, ингушскими или чеченскими боевиками здесь охотились в феврале, когда под огонь спецоперации попали мирные жители — то ли опять же ингуши, то ли чеченцы. Глава администрации Аршты Бейали Акиев проводит для меня экскурсию по селу и показывает в разные стороны света: там — чеченский Ачхой-Мартан, там — Грузия, там была стоянка для автобусов, которые привезли в тот день охотников за лесной черемшой, вайнахским лакомством и одним из немногих способов заработать. “Мы предупреждали за две недели: будет спецоперация, не ходите. Но вы же знаете наших людей…”
Спецоперация, о которой предупреждают за две недели, повергает в некоторое удивление даже видавших виды милиционеров. Для Резвана Бакашева здесь границ тоже нет — он и помощник Адама Делимханова, чеченского депутата и близкого сподвижника президента Кадырова, и охотник на боевиков в ингушских горах, — “Силовикам виднее. Но за восемнадцатью трупами так ведь никто и не пришел”.
Как официально принято считать, 18 боевиков в той спецоперации были убиты. По тем же официальным данным, погибли и четверо мирных жителей. Правозащитник Тимур Акиев, руководитель ингушского отделения “Мемориала”, тоже склонен полагать, что боевиков тогда в лесу накрыли, правда, более или менее уверен он в 14-ти. Почему вся эта февральская история вызвала такой резонанс? Да потому что все было организовано так, что погибших могло быть гораздо больше. “И еще, — добавляет Акиев, — те четверо погибших селян погибли не от минометного обстрела. Мы — не эксперты, мы можем не определить, с какого расстояния стреляли. Но уж ножевое ранение от огнестрельного мы все-таки отличим…”
Три задачи Юнус-Бека Евкурова
То, что произошло в феврале в Аршты, подняло на ноги всю Чечню и Ингушетию не только из-за того, что погибли четыре человека — такая арифметика здесь давно воображения не поражает. Дело, возможно, еще и в том, что это случилось почти одновременно с разрушением иллюзии, которой ингуши к этому времени жили уже почти два года.
Имя иллюзии — Юнус-Бек Евкуров. И будто бы и не плясала от счастья Ингушетия, как в честь всенародной победы, в день избавления от Мурата Зязикова. И будто бы все разом прозрели, догадавшись, что даже знаменитый полковой разведчик роль президента Ингушетии обречен исполнять в той же манере, в которой ее исполнял Зязиков.
Популярную гипотезу о том, что Евкурова будто бы подменили после покушения, в Ингушетии считают мифом. “Я не вижу, что изменилось, — недоумевает Тимур Акиев. — Позиция Евкурова относительно боевиков та же: он никогда не собирался вести себя с ними, как Кадыров. Если кто хочет вернуться — пожалуйста. Но сначала каждый должен получить по заслугам”.
“А вы как думаете — зачем его вообще ставили?” — спрашивает меня Магомед, молодой и удачливый бизнесмен, с весьма редкой для сегодняшней Ингушетии внешностью недавнего выпускника Гарварда. Он некоторое время вместе со всей Ингушетией питал надежды, а теперь знает ответ на свой вопрос, и мы, будто играя в слова, начинаем по очереди перечислять свои версии. К игре подключается его друг, вчера тоже бизнесмен, сегодня высокопоставленный госслужащий, то есть знающий ответы еще лучше, но — анонимно.
“Снять то нервное напряжение, которое создавала фигура Зязикова?” Правильно. Зязиков стал олицетворением всех генеральских московских мечтаний, которые казались несбыточными при Руслане Аушеве. Там, где раньше любые претензии на ингушскую власть со стороны московских людей в погонах встречали жесткий отпор, теперь царила приветливость готового исполнить любую прихоть официанта. Однако платить за это стремительным переходом от предчувствия гражданской войны к ее полномасштабному старту Москва была явно не готова. “Проблема Зязикова была в том, что он при полном беспределе силовиков не подавал голоса. Евкуров, по крайней мере, реагирует. В Ингушетии нельзя не реагировать”, — объясняет ингушский омбудсмен Джамбулат Оздоев.
В общем, следующий ход в нашей игре ходом почти и не считается, являясь продолжением первого: на место Зязикова должен был прийти человек, который, помимо прочего, должен вызывать аллюзии с Аушевым. Полковой разведчик — это уж никак не вчерашний замначальника астраханского ФСБ.
Дальше. “Закрыть на продолжительное время полемику на тему Пригородного района?” Правильно. Едва ли не первым значимым действием Евкурова были съезд ингушского народа, на котором эта московская задача была провозглашена, и местные выборы, без которых Ингушетия жила довольно долго в ожидании возвращения Пригородного района, все-таки состоялись без “исконных территорий”. И изрядной частью ингушей были сочтены предательством. Правда, тут трудно не согласиться с омбудсменом Оздоевым: “Я не понимаю, что значит: отдал Пригородный район. Чтобы отдать, этим надо обладать”. Тот же Оздоев, кстати, еще в те времена, когда и не помышлял о государственной должности, пытался донести до соотечественников простую мысль о том, что неплохо бы хоть как-то устроить жизнь на тех скромных просторах, которые у ингушей имеются и без Пригородного района. Соотечественников эта мысль не увлекала. Теперь все могут хоть на время перевести дух.
Но и это, кажется, не главное. Следующий ход. Может быть, самый главный. “И все, ради чего Евкуров сюда приехал, он должен сделать так, чтобы тем, кому было хорошо вчера при Зязикове, не стало хуже и сегодня при нем. В чем, собственно говоря, и залог стабильности…”
Люди, которые не возвращаются
Руслан Точиев, помыкавшись по якутским холодам, вернулся в родной Малгобек, где, в ожидании обещанной работы, промышлял частным извозом. Первый раз его задержали еще при Зязикове, но тогда он принял это за недоразумение. В ноябре 2008 года на заправке к его машине подъехали две белые “семерки” без номеров, и Руслан исчез. Обычная история, за исключением одного: как говорит отец Руслана Магомет Точиев, это было первое похищение эпохи Евкурова. Прошло без малого два года, уголовное дело по факту похищения человека пылится где-то на полке без движения. “Люди, которые так пропадают, как правило, уже не возвращаются?” — уточнил я у Тимура Акиева в “Мемориале”. “Как правило, не возвращаются”.
Таксист посадил в машину человека, подозревавшегося в связях с боевиками. По дороге увидел знакомого студента. Расстреляли всех троих. Во время спецоперации по задержанию двоих подозреваемых расстреляли их, а заодно и молодых жильцов дома. Их мать прибежала на шум из больницы, в которой работала медсестрой. Ее пропустили через оцепление и расстреляли — как пособницу, о чем и было торжественно отмечено в рапорте о спецоперации. У Тимура Акиева — толстые папки таких историй.
По официальной статистике, их тоже становится меньше. Но так называемый дворовой эфир транслирует совсем другое. И дело не в том, что официоз, может быть, и резонно призывает не верить досужим сплетникам. Дело в том, что эти сплетники уже не видят никакой разницы между временами Зязикова и временами Евкурова. А особенно запальчивые — и между ними вообще.
То, что в 2009 году боевики в Ингушетии значительно активизировались, официальная пропаганда объясняет двумя причинами. Первая — откуда-то у подполья появилось дополнительное финансирование. Версия вызывает зевоту даже у официальной пропаганды. Вторая: с приходом Евкурова с боевиками стали бороться, в связи с чем произошла и ответная реакция, включая знаменитое покушение. Опять без вдохновения.
Есть, впрочем, и третья версия. При Зязикове, что бы ни говорилось об ингушском подполье, отлаженной структурой оно отнюдь не являлось. То есть на территории Ингушетии имелись группы, приходившие из Чечни, но, если речь не шла о каких-то масштабных операциях вроде атаки на Назрань в 2004 году, эти боевики в Ингушетии больше отсиживались и лечились. Активность же местных боевиков сводилась больше к отчаянным акциям мщения, которые не требовали ни выучки, ни опыта, и у каждой из которых, соответственно, имелась своя предыстория с участием силовиков. Может быть, поэтому, кстати, ингушское подполье, в отличие от чеченского и дагестанского, не выдвинуло из своих рядов мало-мальски знаменитого лидера. Собственно, одним лишь Магасом их список и ограничивается, да и тот, прежде чем в июне быть задержанным, в Ингушетии, по мнению местных силовиков, не появлялся.
Но границы между Чечней и Ингушетией как не было, так и нет. И чеченские командиры по мере своего ухода на периферию чеченской жизни, не замечая разницы в ландшафте, продолжили свое расширение за счет соседней республики. Тем более что чеченские силовики это сделали намного раньше. Глава администрации Аршты Бейали Акиев обыденно, как сводку погоды, рассказывает, как чеченские милиционеры спокойно заезжают в село и забирают тех, кто им подозрителен. Впрочем, про такие истории рассказывают и в Назрани. Тимур Акиев вспоминает и случаи проявления ингушским руководством политической воли, чувствуя которую ингушские милиционеры иногда даже вступают в бой с чеченскими: “И несколько чеченцев как-то были убиты. Был приказ не пропускать — и их не пропустили”. Бывает такое нечасто, но и без того непростые натянутые отношения между Кадыровым и Евкуровым от этого лучше не становятся.
И Евкуров, зажатый между Москвой, Кадыровым и боевиками, продолжает галерею образов северокавказских кадровых подходов Москвы. Если в Дагестане в соответствии с ежечасно вычисляемым балансом вычисляется доминирующая на данный момент коалиция, если в Чечне, кроме этого сильного лидера, вообще нет никого и ничего, то единственным ресурсом Евкурова было то, что он не Зязиков. И, может быть, надо сказать слово в его защиту: не он виноват в том, что этого ресурса не хватило и на два года. Среди задач, сформулированных в ходе нашей игры в слова, не значилось ни одной из тех, которая могла сделать этот ресурс хоть сколь-нибудь самовоспроизводящимся.
Другое задание
А силовики как стреляли на поражение, так и продолжают стрелять, причем поражение становится все более массовым. “Почему?” — спросил я у правозащитника Акиева. “Потому что они сюда прикомандированы, и всем хочется вернуться домой живыми. Поэтому легче и безопаснее стрелять по всему живому”.
Но противоборство республики с подпольем отнюдь не является основным сюжетом ингушской жизни, будучи, как и везде на Северном Кавказе, лишь одним из вторичных ее проявлений. Однако описанный подход тех, кто прикомандирован к Ингушетии, имеет полное право считаться аллегорией.
“Ингушетия — кажется, единственный субъект Федерации, у которого в графе “промышленное производство” гордо значится ноль”, — объясняет бизнесмен Магомет. Даже то, что еще вчера могло бы дать хоть пару сотых, умерло — включая промышленные достижения времен пресловутой особой экономической зоны. Например, типография, которая должна была зачем-то стать едва ли не крупнейшей в регионе. “Оборудование износилось окончательно”, — печально произносит омбудсмен Оздоев, и, кажется, только статус государственного человека не позволяет ему улыбнуться. Из того, что было построено на доходы от зоны, функционируют из последних сил только гостиница да новый аэропорт, из которого как летал один рейс в Москву, так и летает.
И дело, конечно, не в Евкурове, который, как гласит современный ингушский эпос, ушел однажды из родного Тарского, обещав никогда больше в эти края не возвращаться. У него была славная биография, и ингуши его если и винят, то совсем не запальчиво и как-то обреченно. Мне объясняют то, что объясняли и в Дагестане, и в Чечне: Москве нужна от нас только лояльность и бюджетные откаты, и неужели никто там, в Кремле, не боится, что все рухнет и в лес начнут подаваться целыми селами или вместо леса все хлынут однажды на площадь? “А если не боятся, — печально подводит итог собеседник, вчерашний бизнесмен, сегодняшний госслужащий, — значит все будет еще больше загибаться, и зря кто-то думает, что загибаться дальше некуда. И никаких Киргизий”.
А человек, который однажды ушел из Тарского, в отличие от своего предшественника, не боится полемики, он реагирует и выступает, по его мобильному телефону могут звонить правозащитники. Но сами правозащитники признают: если об одном и том же ему расскажем мы и расскажут военные, он поверит последним. “Это позиция человека, который считает себя хозяином: говорите, пожалуйста, никто не мешает. Но решение буду принимать я”, — объясняет Акиев. И это решение будет таким, что обязательно понравится Москве.
Но перед Евкуровым был Зязиков, и, когда Зязиков ушел, на улицах танцевали счастливые люди. Эти люди из последних сил заставляют себя верить, что тогда было еще хуже, значит, надо из этих последних сил держаться хотя бы за Евкурова. И без того не слишком убедительная ингушская оппозиция теперь может регулярно общаться с президентом, и ей тоже только и остается вяло его защищать неизвестно от кого, обвиняя во всем его окружение, разогнать которое ему не позволяет, конечно, Москва. И никто лично, получается, не виноват в том, что, как и прежде, здание в Назрани, которое не могли продать за 22 миллиона, вдруг покупается для республиканского Минздрава за 70 миллионов. Впрочем, власть может и не называть это коррупцией. Совершенно искренне. Знакомый, вхожий в ингушскую власть, рассказывает про нее со смехом: “Там как-то очень удивились: если я дал бизнес своему брату, а он потом меня отблагодарил — разве это коррупция?”. Я на всякий случай уточнил у рассказчика: писать это можно — его не вычислят? Собеседник снова рассмеялся: думаете, только со мной делятся такими сомнениями?
Евкуров действительно ни в чем не виноват. Он просто выполняет совсем другое задание.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Забытый форпост
Вице-спикер североосетинского парламента Станислав Кесаев, смеясь, вспомнил “Путешествие в Арзрум”: “Осетинцы — самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе”.
— Пушкин, кстати, удивлялся, что мы не боремся за свободу. Все вот кругом воюют, а мы нет. Можно было бы сказать, что осетины к покорению отнеслись с пониманием, хотя с пониманием к покорению никогда не относятся. Просто есть такое понятие — историческая необходимость. Это когда, будучи малочисленным народом, понимаешь, что не надо объявлять войну Китаю.
А я всего-то и спросил, где в Северной Осетии традиционные северокавказские проблемы. “А кто вообще сказал, что они существуют?” — ответил вице-спикер вопросом на вопрос.
Там, где ходят трамваи
С формальной точки зрения Черменский круг, обычный кольцевой разворот, является территорией Северной Осетии, но после осетино-ингушского конфликта 92-го года он стал неофициальной линией размежевания, которую все уже привыкли считать административной границей между Северной Осетией и Ингушетией. На самом же деле Черменский круг — рубеж почти метафизический.
Все, что по эту его сторону, — империя. Ее форпост. Уютный город отставных военных Владикавказ со старейшим русским театром и бульварами, по которым ходят трамваи. По ту сторону Черменского круга не ходят трамваи, потому что там, где живут будто бы временно, трамваи не нужны. За Черменским кругом нет городов, потому что их там никто не строил, кроме разве что древних персов, но первый город России Дербент им уже давно перестал быть, Махачкала, памятник революционной урбанизации Дикого Поля, городом стать так и не успел. В то, что по ту сторону Черменского круга, будто бы и незачем было вкладывать деньги, нервы и державную душу, потому что все это можно с удовольствием и комфортом вкладывать в форпост, гарнизон и русский Баден-Баден.
В теплых провинциальных городах вообще намного труднее уберечься от ностальгической рефлексии.
…Что при царе, что после него, в тихом очаровании теплой провинции кое в чем жилось, может быть, даже получше, чем в столицах. Про то, что случилось после империи, в Северной Осетии рассказывают так же, как рассказывают от этом в Воронеже или Сибири. Да, был ВПК. Ничего не осталось. Конечно, разрыв производственных цепочек. Еще здесь была горная металлургия. Дорога через поселки-рудники — словно экскурсия по памятникам былому благоденствию, которыми не только в моногородах обычно служат руины.
Но то, что за Черменским кругом, — озлобленная безнадежность, на окраинах империи — депрессия, такая же тихая и безропотная, как сама вчерашняя провинциальность. Министр экономики Заур Кучиев печально рисует картину происходящего, и картина привычна, из местной экзотики только одно: остановилось водочное производство, и это действительно удар. Умер даже знаменитый “Исток”, и Заур Кучиев с готовностью поддерживает версию о том, что завод просто “заказали” конкуренты. Но он оживляется и рассказывает мне про фотоэлектронные пластинки, которые республика делает лучше всех в стране, и, может быть, даже во всем мире, и будто бы это настоящий инновационный шанс и вообще Сколково, а не занятие для нескольких десятков счастливчиков.
Вице-спикеру Кесаеву уже и раньше приходилось выслушивать это подозрение — мол, какие-то вы, осетины, совсем не северокавказские. “И я, когда мне это говорят, стучу по дереву… Да, мы — часть большой страны, и из-за этого у нас имеются маленькие, но большие проблемы”.
В форпосте все спокойно
Во Владикавказе, как и повсюду на Северном Кавказе, все друг друга, кажется, знают, и мой старый знакомый, обнявшись с очередным прохожим, усмехнулся: “Ты хотел посмотреть на нашу оппозицию?”. Прохожий улыбнулся, как мне показалось, не без того же легкого ехидства. Молодой человек оказался организатором местных флэшмобов, которые здесь, на центральной площади, иногда случаются — по поводу какой-нибудь неправильной застройки или отравляющих выбросов агонизирующего “Электроцинка”. Власть выслушивает протестующих с пониманием, но уютную ткань былого Владикавказа продолжают протыкать невообразимого цвета многоэтажки, как продолжают пропитывать атмосферу трупные газы “Электроцинка”. Еще по части оппозиции здесь, конечно, есть коммунисты, но запоминаются либерал-демократы, которые бомбардируют полпредство идеями вроде социального такси: партии — ее логотипы на машинах, пассажирам — смешные цены, вопрос только в том, кто будет оплачивать разницу, и жириновцы никак не могут понять, почему этого не хочет взять на себя бюджет.
Оппозиции нет. Вообще. Как в Чечне. Только, в отличие от Чечни, здесь никто не врывается в дома по ночам, и на вопрос об отсутствии оппозиции власть сама, кажется, удивлена. “У вас что, все хорошо?” — “Да ничего хорошего, как везде”. — “Может быть, у вас дотаций в бюджет намного меньше, чем у соседей?” — “Да нет, ненамного, около семидесяти пяти процентов”. — “Может быть, у вас выросло поколение честных чиновников, которые не дают украсть из них ни копейки?” Собеседники окончательно расслабляются и только спорят между собой, когда я рассказываю, что в Дагестане цена справки об инвалидности — ее годовая доходность. “Нет, у нас подешевле…” — “Ну ладно, ничего не дешевле, примерно столько же…”
Отличие от всех остальных северокавказских пространств одно, но принципиальное. Здесь — стабильность, которая соседям и не снилась. Это значит, что за близость к бюджетным потокам здесь никто не бьется. В борьбе за право черпать из них североосетинские чиновники достигли невиданного консенсуса.
Здесь больше нет внутреннего и негасимого конфликта за право быть главным финансовым диспетчером. Наезд на водочную промышленность здесь воспринимают как общенациональную беду. Над идеей энергетического кластера здесь посмеиваются одинаково и вне всяких различий в политических пристрастиях: никакой сетью малых ГЭС Северная Осетия не покроется по той простой причине, что гораздо выгоднее с точки зрения чиновного счастья вечно строить Зарамагскую ГЭС. И никому в Северной Осетии от этого хуже жить не становится.
И вся формула про маленькие, но большие проблемы. Раньше на бонусы от паленой водки, которую разливали в каждом подвале, здесь строились дворцы. Теперь дворцов стало меньше, нет даже “Истока”, скромнее стал бюджет. Пугать Москву Владикавказу нечем — ни тебе готовой перейти в перестрелку борьбы кланов, ни ваххабитов, ни идей независимости, ни захудалого межнационального конфликта. Все друг друга знают, во главе республики тот, кто для каждой мало-мальски значимой чиновной команды — свой. И нет ничего такого, что можно было бы продать на рынке природных политических ресурсов. В форпосте все спокойно, особенно когда всем ясно, что никакой необходимости в форпосте нет, а имперская инерция продолжает работать. В отличие от “Истока”.
Солидарность по-осетински
И тут, казалось бы, такая невиданная удача: война в Южной Осетии. Северная Осетия, конечно, никакая не передовая, но чем не повод обозначить свою стратегическую значимость. “Почему восстановлением Южной Осетии занимается кто угодно, только не осетинские строители?” — не боясь текстуальных совпадений с творчеством президента братской Южной Осетии, говорят североосетинские чиновники. В попытке найти хоть какую-нибудь тему для счета, который можно было предъявить Москве, Владикавказ не стесняется быть запальчивым, и Теймураз Мамсуров говорит о неминуемом объединении двух Осетий. И если Северная Осетия не становится тыловой базой, то пусть ей достанется хотя бы часть функций штаба по восстановлению Южной Осетии. А поскольку любая политическая позиция во Владикавказе практически сразу становится единой, Южная Осетия оказывается ловушкой и способом раздвоения сознания — вполне, кстати, северокавказского. С одной стороны, северные осетины по-прежнему отнюдь не в восторге от массового переселения энергичных южан на север, которое началось еще после первых конфликтов в Южной Осетии в начале 90-х. И уж тем более они не испытывают восторга от лидера этих южан. Не говоря о том, что среди северян не так уж мало тех, кто и вовсе полагает осетинское родство формальным, считая, что за века жизни в Грузии южные осетины стали куда ближе к соседям, чем к братьям. С другой стороны, солидарность, в том числе и внутриэлитная, — фирменный осетинский знак, даже вполне либерально настроенные люди вынуждены комментировать боевые югоосетинские сюжеты так, будто их история и на самом деле началась только в начале августа 2008-го. И Эдуард Кокойты обречен быть “нашим”, просто потому, что быть в оппозиции здесь как-то вообще не принято.
В общем, так и выглядит гармония по-северокавказски. Переназначение на новый срок Теймураза Мамсурова в Москве сомнений не вызвало. То, что делает Северный Кавказ — большой и бурный распил бюджетного потока, здесь проходит тихо, без полемики и дорогостоящих сюрпризов. Чтобы быть у Москвы на самом хорошем счету, больше ничего не требуется. “Забытый форпост” — это второй вариант идеальной вертикали. Первый, напомним, в Чечне — там, куда этот форпост переехал.